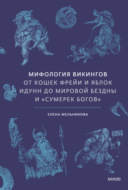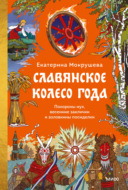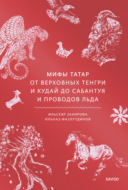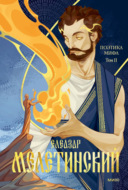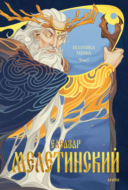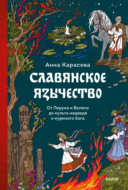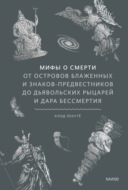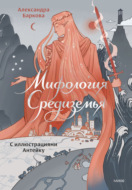Kitobni o'qish: «Право и литература. Как Пушкин, Достоевский и Толстой придумали Конституцию и другие законы»

Научный редактор Юлий Тай
Книга не пропагандирует употребление алкоголя и табака. Употребление алкоголя и табака вредит вашему здоровью.
Все права защищены.
Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
© Ульбашев А., 2025
© Оформление. ООО «МИФ», 2025
⁂
Ф. А. Анимуковой, Б. К. Баговой и В. А. Федотовой – необыкновенным школьным учителям, с уроков которых все начиналось
Всякая стадность – прибежище неодаренности, все равно верность ли это Соловьеву, или Канту, или Марксу. Истину ищут только одиночки и порывают со всеми, кто любит ее недостаточно.
Борис Пастернак. Доктор Живаго
От автора

Юристы часто пробуют себя в писательстве. Но по иронии судьбы грандиозных успехов и читательского признания добиваются лишь самые посредственные из них.
Франц Кафка отучился на правоведа и даже успел поработать страховым агентом. Однако профессию свою он искренне презирал, бесцеремонно поквитавшись с ней в романе «Процесс», ставшем культовым. Среди выпускников юридического факультета университета Рио-де-Жанейро числился Жоржи Амаду. В отличие от Кафки, он ни дня не потратил на занятия ненавистным делом, а сразу же посвятил себя литературному труду и позже снискал славу корифея бразильской прозы.
На первый взгляд юриспруденции чуждо все литературное: экспрессивность, образность, метафоричность как будто не имеют ничего общего с математически выверенными параграфами, статьями и абзацами законов, кодексов и уложений. И бюрократический язык, которым юристы выражают мысли в исковых заявлениях, полицейских протоколах и судебных приговорах, бесконечно далек от языка литературного. Употребление канцеляризмов, профессиональных жаргонизмов, многострочные предложения с кавалькадами из плохо согласованных отглагольных существительных среди юристов считается едва ли не правилом хорошего тона. Неудивительно, что и читать тексты юристов, которые занимаются литературными упражнениями в перерывах между судебными прениями и допросами подследственных, – занятие малоинтересное.
Редкое исключение из этого безрадостного правила составляют детективные новеллы. Их авторы – как правило, бывшие следователи и прокуроры – со знанием дела рассказывают о хитроумных преступлениях, которые сами однажды распутывали. Так, например, стали классикой «Записки следователя» Льва Шейнина и «Записки адвоката» Ильи Брауде. В таких произведениях мы охотно прощаем писателю-юристу мелкие стилистические огрехи и погружаемся в захватывающие истории, которые будоражат воображение и приближают нас к юридическим реалиям.
На самом деле язык права, который часто смешивают с языком мелких чиновников и судебных стряпчих, ничем не отличается от литературного языка. Более того, подлинно выверенная юридическая речь сама по себе музыкальна и мелодична. Судебные выступления дореволюционных юристов – Федора Плевако, Анатолия Кони, Льва Куперника, Петра Пороховщикова (Сергеича) и Максима Винавера, – до сих пор почти не известные широкой аудитории, могли бы служить образцами русской словесности. Они волнуют так же, как рассказы Антона Чехова или тургеневские «Стихотворения в прозе».
Конечно, профессиональная среда формирует особый тип мышления юристов, но и ему не чужда литературность в самом высоком смысле этого слова. Наоборот, юридическая мысль со свойственными ей прагматизмом и логичностью нуждается в литературе как в нравственной основе, ведь именно художественным словом выражены общественные идеалы, на страже которых законы призваны стоять.
«Литература дает нам колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт жизни. Она делает человека интеллигентным, развивает в нем не только чувство красоты, но и понимание – понимание жизни, всех ее сложностей, служит проводником в другие эпохи и к другим народам, раскрывает перед вами сердца людей. Одним словом, делает вас мудрыми» – эти слова академика Дмитрия Лихачева известны многим1. В самом деле, литература – кладезь народной мудрости, ибо она обращена к человеческим страстям и общественным порокам, предлагает их глубокое осмысление.
Судья, прокурор, адвокат или депутат, как бы банально это ни звучало, должны быть по-человечески мудры. Если у них не будет проницательности, сострадания и эмпатии от недостатка опыта жизни, о котором писал Лихачев, это неизбежно приведет юристов к непоправимым ошибкам, ценой которых станут изломанные судьбы людей. К слову, именно это обстоятельство лежит в основе трагедии Катюши Масловой в «Воскресении» Льва Толстого: из-за досадной судебной ошибки и человеческого безразличия Маслову приговаривают к каторге за преступление, которое она не совершала.
Юриспруденция и литература в сегодняшней России – две сестры, которых в детстве разлучила мачеха, и они все еще не нашли друг друга. Мы попытались усадить двух сестер за один стол и напомнить им о кровном родстве. Но повзрослевшие сестры не желают глядеть друг другу в глаза и упорно не признают родственных уз, а потому разговор об их прошлом и будущем требует от посредников деликатности, а также вступительных разъяснений и наставлений.
В этой книге мы вместе с читателем попытаемся осмыслить то, как юридические принципы находили отражение в русской литературе и как литература влияла на правосознание в России. Мы постараемся по-новому взглянуть на сюжеты классических произведений, многие из которых нам знакомы еще со школьной скамьи, анализируя их с точки зрения правовых дилемм и этических вызовов. Отправляясь в это увлекательное путешествие, мы разберем то, как писатели использовали юридический контекст для придания художественным текстам большего драматизма и реализма, а также то, как литературные сюжеты меняли представления отечественных юристов и задавали тон общественным дискуссиям на протяжении целых столетий.
Введение

Изучение русской литературы – крайне рисковое предприятие. Всякого, кто решится по-настоящему осмыслить Александра Пушкина, Николая Гоголя, Федора Достоевского и Льва Толстого, ждет прозрение, к которому тот может оказаться не готов.
Чтобы разобраться в отношениях отцов и детей, научиться сострадать униженным и оскорбленным и приблизиться к тем, кому на Руси жить хорошо, не нужно обращаться к психологам, коучам и модным сегодня тарологам, достаточно лишь внимательно перечитать русскую классику. Нет ни одного общественного явления или человеческого переживания, которое бы не описали и не изучили отечественные писатели. Литература стала частью нашей жизни, большим, универсальным предисловием к ней.
Еще в XIX веке Михаил Лермонтов иронизировал над некоторыми читателями: «Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии; она просто дурно воспитана. ‹…› Наша публика похожа на провинциала, который, подслушав разговор двух дипломатов, принадлежащих к враждебным дворам, остался бы уверен, что каждый из них обманывает свое правительство в пользу взаимной нежнейшей дружбы»2. К сожалению, эти слова можно в полной мере применить и к юридическому сообществу начала XXI века, которому пока еще предстоит научиться читать между строк, чтобы за деревьями видеть лес. Этот навык всегда дается с трудом и только тем, кто проявляет должное усердие.
Типичный образ юриста, который так часто встречается в наши дни в нотариальных конторах, адвокатских кабинетах, приемных прокурора и лекториях юридических факультетов, напоминает заунывного фонвизинского Цыфиркина. Он вроде бы и знает кое-какие основы своей науки («Малу толику арихметике маракую», – с гордостью говорил он о себе3), но свою работу не любит, а без любви невозможно достичь значимых успехов. Потому нет ничего удивительного в том, что наша юриспруденция не желает идти в ногу со временем, будто живя в XIX веке, возлежа на диване и по-обломовски завернувшись в «халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный»4.
От лености или из-за пороков мы до сих пор не перебороли, не переросли буквоедский формализм предков. Подобно старорежимным правоведам, привыкшим сводить чтение законов к заучиванию буковок и запятых, за блеклой чернильной краской юридических текстов мы не видим великого многоцветья правовых идеалов и принципов. Вместо любви к закону испытываем перед ним неистребимый страх и ужас, как перед уличным полицейским, размахивающим дубинкой. Вот и живем, дрожа и приговаривая, как чеховский Беликов, «человек в футляре»: «Как бы чего не вышло»5.
В результате правоведение в России если до конца и не погублено, то выхолощено, сведено к дотошному применению циркуляров и инструкций.
«Что же делать?» – спросите вы.
Поскольку ответ на этот вопрос не уложить в одно или два предложения, я пошел на эксперимент и написал целую книгу, призвав себе на помощь классиков русской литературы. И надо отдать мэтрам художественного слова должное за то, что не бросили меня в этом сложном предприятии и из глубины веков протянули руку помощи.
О взаимосвязи между юриспруденцией и литературным творчеством впервые заговорили в XIX веке, хотя и в сугубо прикладных, педагогических целях. Тогда профессора европейских юридических школ, объясняя на лекциях правовые проблемы, использовали сюжеты художественных произведений, полагая, что таким образом студентам будет куда интереснее обсуждать скучные теории и законы.
Заставив слушателей задуматься над фабулой художественного произведения, лекторы не только расширяли культурный кругозор будущих юристов, но и позволяли им вырваться за рамки учебников. Студенты учились видеть за обезличенными нормами закона реалистичных персонажей со сложными судьбами, чувствами и переживаниями.
Обращение к литературным примерам с педагогической точки зрения оказалось весьма успешным. Дело в том, что в основе любого закона или судебного решения, как и драматического произведения, лежит жизненный конфликт. Он может быть вселенского масштаба или, наоборот, остаться почти никем не замеченным. Разногласия возникают между друзьями, сослуживцами, супругами, родственниками, незнакомцами. Споры могут быть вызваны разделом наследства или покупкой овощей в сельпо, неоплаченным проездом в трамвае, работой над секретным техническим изобретением в конструкторском бюро или обсуждением важных правительственных распоряжений. А иногда из искры спора разгорается целое пламя: прямо как в гоголевской «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», где два старинных друга в одночасье превратились в злейших врагов из-за сущей ерунды – несостоявшейся сделки по обмену ружья на бурую свинью.
Каждый конфликт требует своего справедливого юридического разрешения. Принимаясь за такую задачу, юрист как бы перевоплощается в писателя, литературные персонажи которого находятся в непростых жизненных обстоятельствах, а теперь ищут выход из сюжетного тупика.
Рудольф фон Иеринг – выдающийся немецкий профессор права XIX века, создатель юридической теории интересов (Interessenjurisprudenz), по чьим работам до сих пор изучают право в юридических школах Старого Света, – на своих лекциях просил студентов читать не только тексты законов и научные трактаты, но и… пьесу Уильяма Шекспира «Венецианский купец». Иеринг давал своим слушателям необычное по тем временам задание – оценить шекспировскую историю с точки зрения гражданского права. Напомню, в «Венецианском купце» речь шла о векселе, который еврейский ростовщик Шейлок выдал купцу Антонио. По условиям соглашения, при просрочке платежа Шейлок вправе вырезать фунт мяса из тела должника. Несчастный Антонио не смог выполнить требование кредитора, и над ним нависла страшная угроза.
Конфликт между Антонио и Шейлоком в корне своем юридический, поэтому неудивительно, что герои вынуждены искать справедливости в суде. Шекспировский суд поначалу склоняется на сторону Шейлока, что означает неминуемую гибель Антонио. И это по-своему верно: Dura lex, sed lex6.
Заметьте, события пьесы разворачиваются в средневековой Венеции, источником благосостояния которой считалась торговля. Поэтому в «Венецианском купце» ни сенаторы, ни почтенный дож, искренне сочувствующие подсудимому, не решаются переступить через условия векселя. Волю коммерсантов, выраженную в письменном соглашении, тогда не ставили под сомнение, она приравнивалась к высшему закону.
В итоге Антонио спасает прекрасная Порция. Она выдает себя за доктора права и убеждает суд в том, что судить нужно не Антонио, а еврея Шейлока за покушение на убийство правоверного христианина. Милосердный суд, однако, прощает ростовщика с условием, что тот отдаст половину своего состояния бывшему должнику, Антонио, а сам примет христианство.
Иеринг говорит, что вексель, который Шейлок выдал купцу Антонио, был изначально недействительным, а решение суда называет жалким крючкотворством, далеким от реалий настоящей юриспруденции. Театрализованное судилище вызывает у Иеринга, как у опытного правоведа, тот же сарказм, с которым современные юристы смотрят судебные шоу по федеральным телеканалам, поскольку и эти шоу не имеют ни малейшего отношения к судебным реалиям. «Драматичность его (Шейлока. – Прим. авт.) положения основывается на том, что он питал твердое доверие к закону, которого ничем нельзя было поколебать и которое поддерживалось самим судьей, – как вдруг, подобно удару грома, над ним разражается катастрофа, открывающая ему глаза и напоминающая ему, что он еврей, для которого не существует закона»7. Хеппи-энд, навязанный Шекспиром, не кажется Иерингу таковым, поскольку вся развязка построена на лжесвидетельстве Порции и последующем поругании закона.
Мы, конечно, можем посчитать сюжет «Венецианского купца» двусмысленным и по другим причинам: в первую очередь из-за антисемитского подтекста. Но здесь любопытно другое: как на протяжении веков развивалась юридическая аргументация, а вместе с ней и представления людей о законности и справедливости. Гуманистические идеи, находившие отражение в европейском искусстве, неизбежно проникали и в юриспруденцию и меняли ее.
В свою очередь, и русские педагоги пользовались аналогичным приемом, обращаясь к художественным текстам для иллюстрации собственных суждений. В 1899 году на русском языке вышла брошюра другого немецкого правоведа, Йозефа Колера, «Шекспир с точки зрения права (Шейлок и Гамлет)» в переводе петербургского юриста и прекрасного знатока европейской культуры Якова Канторовича. С этого момента интерес к литературному анализу права как к научному концепту неуклонно растет.
Следуя за Иерингом, Колер не обходит вниманием сюжет «Венецианского купца», попутно отдавая должное Шекспиру за «обилие юридических идей»8. Однако, в отличие от своего предшественника, Колер считал вексель действительным, опираясь на средневековое законодательство и обычаи. При этом он признает сходство между шекспировским Шейлоком и Мефистофелем у Гёте: «И здесь герой заключает договор, которым он предает себя в руки злодея, и притом злодея ex professo9, самого сатаны»10. Но если «дьявольский договор не имеет силы», то вексель, пускай и заключенный на крайне невыгодных условиях, действителен. Колер уверен, что нужно видеть разницу между сюжетом произведения и его философией, нравственным посылом: «Победа над Шейлоком – высшее выражение человеческого права, как победа над дьяволом есть высшее выражение божественного права»11.
Работа Колера – это уверенный шаг вперед в юридико-литературных исследованиях. Колер не сводит разбор художественного произведения к школярскому обсуждению казуса из университетского задачника по гражданскому праву для закрепления пройденного материала на семинаре. Он идет дальше и видит в шекспировском тексте универсальное нравственное мерило, влияющее на развитие правовой мысли и привносящее гуманистические идеалы в юриспруденцию.
Позиция Колера становится еще более очевидной, когда он переходит к другому не менее известному произведению Уильяма Шексира – «Гамлету».
Гамлет, как известно, желал отомстить дяде Клавдию за убийство отца. В то же время сам Клавдий замышляет очередное преступление: теперь он намеревается расправиться со строптивым племянником. Несмотря на накал семейного противостояния, правоведы читают шекспировскую пьесу скорее как материалы уголовного дела, по которым можно изучать самые важные разделы уголовного права: стадии совершения преступления, формирование умысла, значение мотивов убийства, соучастие, фактические и юридические ошибки и так далее.
Убийству – одному из самых страшных злодеяний, на которые способен человек, – тысячи лет. Однако со временем менялись представления о сущности убийства, случаях, когда лишение жизни другого человека считалось не только дозволенным, но и справедливым. Оттого Колер говорит, что к истории Гамлета нельзя подходить формально, игнорируя этический контекст произведения и всей эпохи: «Нравственная фигура Гамлета стоит на рубеже двух эпох – эпохи кровавой мести и эпохи новейшего этико-правового миросозерцания. Поэтому значение характера Гамлета историческое. Гамлета, как и венецианского купца, можно постигнуть только под условием ознакомления со всею историческою эволюцией, только поставив его личность на почву универсально-исторического исследования»12.
Получается, что для Иеринга право первично и нуждается в литературном тексте только как в наглядном материале для схоластических рассуждений и интеллектуальных упражнений. А Колер открывает в литературе своего рода источник добродетели, который питает право и способен в итоге изменить законодательство.
Сегодня право и литературу (англ. Law & Literature, нем. Recht und Literatur) как самостоятельное научное направление принято изучать в двух измерениях: «право в литературе» (англ. Law in Literature, нем. Recht in der Literatur) и «право как литература» (англ. Law as Literature, нем. Recht als Literatur).
Суть первого подхода мы уже показали: сюжеты художественных произведений анализируются на основе реальных правовых норм и методов, благодаря чему юристы, как ученые в лаборатории, экспериментируют и предвидят последствия своих решений. Но где юристам искать материалы для своих исследований? Конечно же, в литературе!
Второй подход – «право как литература» – получил распространение в Соединенных Штатах в 1970–1980-х годах и рассматривает само право как разновидность литературы. Наиболее основательно такой взгляд на право и литературу представлен в классической работе американского теоретика и философа права Джеймса Бойда Уайта «Юридическое воображение» (The Legal Imagination)13, а также в исследованиях других выдающихся американских правоведов: профессора Йельского университета Роберта Кавера и представителя чикагской юридической школы Ричарда Познера.
По мнению Уайта, право есть «чрезвычайно богатая и сложная система мыслей и выражений, социальных определений и практик»14, которая выражается устно или письменно. Мы уже говорили о том, что юрист, составляющий доверенность, завещание, текст договора или пишущий проект будущего закона, на время превращается в писателя. Хотя юрист имеет дело не с вымышленными героями, а с живыми людьми, его так же интересует язык юридических документов, правовая семантика, композиция, лингвистическое поле, на котором произрастают всевозможные законы, постановления и судебные прецеденты15.
В этой книге мы посмотрим на основные правовые нормы и ценности современного законодательства сквозь призму отечественной литературы. Таким образом, мы будем использовать литературный анализ права: Literature in Law и Literature as Law16 вместо Law in Literature и Law as Literature.
Литература не есть само право в строгом смысле этого слова. Однако юристы больше не могут игнорировать общественные идеалы – драгоценные алмазы, добытые писателями в рудниках человеческих душ и бережно ограненные ими. Анализ литературных текстов мало чем отличается от изучения судебных прецедентов и чтения законов. Более того, художественное слово дает ключи к пониманию общественной справедливости, которых не отыскать ни в каком собрании законов или юридической энциклопедии.
Конечно, найдутся скептики – главным образом среди тех юристов, «людей в футляре», для которых недопустимо связывать право и литературу.
Однажды на третьем курсе университета я беседовал с известной российской правозащитницей и по совместительству главным редактором авторитетного научного журнала по конституционному праву. Она язвительно бросила мне, что негоже правоведам заниматься чем-то еще, кроме чистого права. В качестве примера она привела своего коллегу, адвоката Петра Баренбойма. «Что же он за юрист, раз интересуется, помимо юриспруденции, флорентийским искусством эпохи Возрождения, библеистикой и даже философией? – с сочувствием вздохнула она. – Не юрист, а так… и швец, и жнец, и на дуде игрец».
Много лет спустя я осознал, что правда была на стороне Баренбойма. Лишь на первый взгляд у скульптур Микеланджело, ветхозаветных притч и кантианской философии, знатоком которых был прославленный адвокат, нет ничего общего с положениями всевозможных кодексов и разъяснениями судебных инстанций. А ведь юриспруденция, как часть человеческой культуры и один из ее величайших рукотворных памятников, неразрывно связана с искусством. Стало быть, познать закономерности и принципы права невозможно без глубокого погружения исследователя в цивилизационный контекст, основу которого, конечно же, составляет литература.
«Но как же, – снова запротестует юрист, – вы предлагаете изучать право с помощью литературы, забывая, что в самой литературе царит полный хаос и нет консенсуса ни по одному вопросу».
В доказательство нам справедливо припомнят извечные разногласия между классицистами, романтиками и реалистами. Еще более напряженными оставались творческие – а иногда и личные – отношения между акмеистами, футуристами, символистами и представителями прочих литературных школ прошлого. Можно продолжить этот ряд и привести в пример и споры всевозможных почвенников, славянофилов и западников. Да и условное западничество никогда не было монолитным: внутри себя оно распадалось на религиозные, либеральные и социалистические течения… Как определить среди литературного многообразия «несущие колонны», на которых и полагается зиждиться великому зданию юриспруденции?
Для юриста противоречивость литературы есть ее преимущество, а не недостаток. Задача юридического сознания в этом и состоит – формировать общее из частностей, причем нередко противоречивых и взаимоисключающих. Фактологический, идейный и ценностный материал, который заложен в литературных текстах, служит для юридической науки незаменимым средством познания и самопознания.
«Но как же?..» – не дослушав, вы снова перебьете меня.
Читателю, которого заинтересовала мысль о соотношения права и литературы, пускай и вызвав у него некоторые возражения, посвящается следующая часть книги.

Bepul matn qismi tugad.