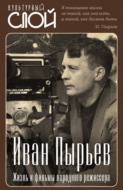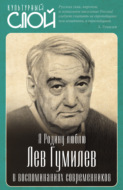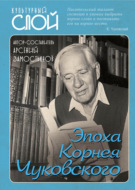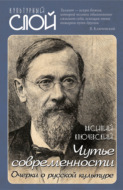Kitobni o'qish: «Своё возненавидел. В спорах о русской интеллигенции»
© Блок А.А., 2022
© ООО «Издательство Родина», 2022
Предисловие
Рубеж XIX–XX веков был трудным временем для русского общества, власти, церкви.
Это потом, в неизбывной тоске по «прекрасному прошлому», в горечи изгнания сложную и смутную эпоху назовут Серебряным веком. А тогда, несмотря на все внешние успехи и достижения российской экономики, политики, культуры, люди жили с гамлетовским ощущением: «Не ладно что-то в Датском королевстве».
«Мы еще не знаем в точности, каких нам ждать событий, но в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа» – эта фраза из статьи А. Блока «Безвременье» стала символичной для всей эпохи.
Стремительно менялась жизнь, в дерзких умах рождались или приходили извне новые идеи, другое понимание мира и человека. Ломались «незыблемые» устои жизни, выстраивалась иная система отношений между людьми, слоями общества, обществом и властью. Развитие промышленности, новые технологии преображали города и ландшафты, срывали таинственный покров с отдаленных уголков мира, ставших вдруг доступными.
Потрясающе точную и пророчески-страшную характеристику ХХ века дал в своей поэме «Возмездие» Александр Блок:
Двадцатый век… Еще бездомней,
Еще страшнее жизни мгла
(Еще чернее и огромней
Тень Люциферова крыла).
Пожары дымные заката
(Пророчества о нашем дне),
Кометы грозной и хвостатой
Ужасный призрак в вышине,
Безжалостный конец Мессины
(Стихийных сил не превозмочь),
И неустанный рев машины,
Кующей гибель день и ночь,
Сознанье страшное обмана
Всех прежних малых дум и вер,
И первый взлет аэроплана
В пустыню неизвестных сфер…
И отвращение от жизни,
И к ней безумная любовь,
И страсть и ненависть к отчизне…
И черная, земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи…
Понятие «возрождение» чрезвычайно близко Серебряному веку: оно осознавалось изнутри и как подъем, бурное развитие, и с привычным семантическим аспектом возврата, повторности, восстановления после катастрофы. В философии параллельно развивались славянофильские и западнические идеи, в культуре возрастал интерес как к русской, славянской культуре, фольклору, народному искусству, так и к европейской культурной традиции, Средневековью, античности, ориентализму.
Суть этого двуединства удачно сформулирована Н. А. Бердяевым: «К слишком временному и тленному в прошлом нельзя вернуться, но можно вернуться к вечному в прошлом».
Философ ощущает Серебряный век одновременно возрождением и концом ренессанса: «В религиозных и мистических движениях конца XIX и начала ХХ века, которые для этой эпохи очень характерны и идут на смену течениям позитивным и материалистическим, также обнаруживается характер антиренессансный и антигуманистический».
Более того, Бердяев не просто осознает антиренессансность ряда течений в культуре эпохи, например, религиозного сектантства, но и прямо определяет ее упадочность: «Упадочность культуры есть ее истончение и усложнение, есть все увеличивающаяся дифференциация, уводящая от первоначальной органической цельности, возрастающая оторванность от жизненных источников».
Феномен возрождения-декаданса Бердяев рассматривает как один из основных и самых острых вопросов философии культуры. Он прямо указывает на амбивалентность этих феноменов: «Человек упадочный вдруг оказался способным проявлять силу, которую привыкли ждать лишь от человека варварского, со всеми положительными и отрицательными свойствами варварства».
«Нет больше домашнего очага. Необычайно липкий паук поселился на месте святом и безмятежном, которое было символом Золотого века. Чистые нравы, спокойные улыбки, тихие вечера – все заткано паутиной, и самое время остановилось. Радость остыла, потухли очаги. Времени больше нет. Двери открыты на вьюжную площадь» – такой, потрясающе выразительный образ безвременья дает Александр Блок в статье с соответствующим названием.
Раскрывая дальше суть безвременья, поэт дает еще один удивительный образ: «Лицо девушки вместе смеется и плачет. И рябина машет рукавом. И странные люди приплясывают по щебню вдоль торговых сел. Времени больше нет. Вот она русская действительность – всюду, куда ни оглянешься, – даль, синева и щемящая тоска неисполнимых желаний».
Блок ощущает эпохальную значимость своего времени: «Значительность пережитого нами мгновения истории равняется значительности промежутка времени в несколько столетий».

К. Маковский. Оленька (Портрет дочери)
И на фоне всего этого, на фоне политического террора, первой русской революции образованная часть общества возвращается к вечному русскому вопросу «Кто мы?».
Спор этот, спровоцированный, прежде всего, ужасами революции 1905–1907 годов, в которой и общество, и власть проявили себя отнюдь не с лучшей стороны, возвращает русских мыслителей к давнему вопросу о природе и сути русской интеллигенции, о ее роли в жизни общества, истории страны.
Не секрет, что интеллигенция в России никогда не рассматривалась просто как некий социальный слой или группа людей, объединенных определенным родом занятий (умственным трудом), невозможно к ней было применить и принятое на Западе обозначение «интеллектуалы».
У нас интеллигенция, чрезвычайно пестрая по социальному составу, трансформировалась в своеобразную субкультуру, в которой занятие интеллектуальным трудом, как главный признак группы, отошло на второй план. Более того, понятия «образованный класс» и «интеллигенция» в понимании русского общества почти сразу разошлись и даже стали во многом противопоставлены друг другу. Достаточно быстро, еще в первой трети XIX века одним из основных (если не самым основным) признаком русского интеллигента стало ярко выраженное социальное мессианство. Всякий русский интеллигент непременно был озабочен судьбами Отечества, мнил себя носителем общественной совести, активно сопереживал «униженным и оскорбленным» и непременно находился в оппозиции к государству. Без этого называться интеллигентом было немыслимо.
Русским интеллигентом мог стать кто угодно: дворянин, разночинец, мещанин, выбившийся «в люди» крестьянин или рабочий, главное, чтобы соблюдались вышеназванные условия и вся его деятельность (в основном, графоманско-демагогического толка) имела ярко выраженный оппозиционный характер и критиковала так или иначе «реакционное» и «отсталое» государство.
Столь однобокий подход был еще более-менее приемлем в середине и второй половине XIX века на фоне увлечения позитивизмом, идеей прогресса, либеральных реформ. Однако к рубежу веков нарастала реакция, позитивизм сдавал свои позиции, а вера в идею прогресса и прекрасного «завтра» угасала.
«Никогда еще не было такого разочарования в научности, такой жажды иррационального. Ныне и позитивизм признают дурной метафизикой, и в научности самой науки готовы усомниться. Повсюду есть глубокая неудовлетворенность рационализмом и стремление освободить иррациональное в жизни» – это цитата из работы Бердяева «Смысл творчества».
Далее в этом же труде философ дает характеристику позитивизма через его отношение к человеку: «Позитивизм был крайним выражением стремления не только постигнуть мир внешним путем, уходящим как можно дальше от внутреннего человека, но и самого человека поставить в ряд внешних вещей мира».
Он пишет далее, что кризис позитивизма обращает человеческое сознание к сокровенным дорационалистическим истокам и связывает этот кризис с усилением религиозных мистических исканий, с распространением сектантства в самых разных слоях русского общества – от крестьянства до императорской семьи, с оккультными увлечениями.
Нарастание мистических исканий связано с кризисом официального православия, с языческим космизмом, сохранившимся к началу ХХ века в качестве обрядовой составляющей православия народного.
«В ренессансе был элемент антиперсоналистический. Языческий космизм, хотя и в очень преображенной форме, преобладал над христианским персонализмом» – пишет Бердяев в работе «Русская идея».
На фоне этого возникали обоснованные сомнения и вопросы о сути и роли русской интеллигенции, по-прежнему претендовавшей на роль общественной совести, нравственного камертона и лидеров общественного развития. Особенно эти настроения усилились на фоне русской революции 1905–1906 годов, в которой интеллигенция подчас играла сомнительную роль.
Наиболее ярким выражением этой необъявленной дискуссии стал сборник «Вехи», вышедший в 1909 году и сразу получивший огромный общественный резонанс. Популярность его была столь велика, что он выдержал еще четыре переиздания и остался одним из наиболее ярких литературно-общественных явлений Серебряного века.
Сразу же после своего появления сборник вызвал шквал критики и яростные споры.
Ни до, ни после «Вех» не было в России книги, которая вызвала бы такую бурную общественную реакцию и в столь короткий срок (менее чем за год!) породила бы целую литературу, которая по объему в десятки, может быть, в сотни раз превосходит вызвавшее ее к жизни произведение… Лекции о «Вехах» и публичные обсуждения книги собирали огромные аудитории. Лидер партии кадетов Милюков совершил даже лекционное турне по России с целью «опровергнуть» «Вехи», и недостатка в слушателях он, кажется, нигде не испытывал.
В.И. Ленин назвал «Вехи» «энциклопедией либерального ренегатства» и «сплошным потоком реакционных помоев, вылитых на демократию».
Официальная советская критика и современные представители коммунистических течений дали этому сборнику крайне негативную оценку:
«…пресловутый сборник статей либерально-октябристской профессуры и интеллигенции, вышедший в эпоху реакции, в 1909 г.… В этом сборнике оплевывалась революционная деятельность интеллигенции в прошлом, революционеры третировались, как худшие враги страны и народа… В свое время «Вехи» встретили резкий отпор со стороны революционных кругов, в первую голову, разумеется, со стороны нашей партии».
Причина столь бурной реакции общества была в том, что семеро авторов сборника выразили в развернутых статьях свое видение русской интеллигенции и ее общественной роли, нарисовали портрет «типичного» интеллигента, очень и очень далекий от того благостно-героического образа, который был привычен русскому обществу. Авторы не стремились унижать или судить. Они просто ставили вполне обоснованные вопросы и подвергали сомнению «незыблемое» убеждение образованной части общества в том, что интеллигенция имеет право и должна претендовать на ту мессианскую роль, которую она сама себе избрала.
Сборник породил целую литературную традицию. Мыслители различных убеждений, представители всех партий подхватили волну дискуссий, с энтузиазмом в диспут включились даже далекие от политики литераторы, такие, как Александр Блок, Андрей Белый. А замечательный мыслитель и публицист Василий Розанов горячо приветствовал выход сборника, так как идеи его авторов были достаточно близки к его взглядам, выражаемым не менее смело и ярко в небольших газетных и журнальных заметках.
С той поры споры о роли интеллигенции в нашем обществе не утихают. Да и само понятие «интеллигент» стало чем-то сугубо российским, чью суть невозможно адекватно передать ни на каком другом языке.
Сегодня эти споры и статьи наших мыслителей о русской интеллигенции актуальны, как никогда. И сколь же злободневно звучат тезисы, написанные более ста лет назад.
«Из противоречий соткана душа русской интеллигенции, как и вся русская жизнь, и противоречивые чувства к себе возбуждает… Рядом с антихристовым началом в этой интеллигенции чувствуются и религиозные высшие потенции, новая историческая плоть, ждущая своего одухотворения. Это напряженное искание Града Божия, стремление к исполнению воли Божией на земле как на небе, глубоко отличаются от влечения мещанской культуры к прочному земному благополучию» (Николай Бердяев).
«Проклятые вопросы» Достоевского в условиях стремительно меняющейся жизни, духовного кризиса и кризиса официальной церковной доктрины, в атмосфере декаданса и предощущения катастрофы, глобального перелома стали знаковыми для эпохи. В них – ее суть, даже в своем роде, духовный диагноз.
«… основным проявлением интеллигентского сознания, приводящим его к крушению, является рационалистический утопизм, стремление устроить жизнь по разуму, оторвав ее от объективных начал истории, от органических основ общественного порядка, от животворящих святынь народного бытия»;
«… когда, увлекаясь своим полетом, мысль человеческая отрывается от своих жизненных корней, когда она стремится сама из себя воссоздать всю деятельность, заменив ее органические законы своими отвлеченными требованиями, тогда вместо того, чтобы быть силой созидательной и прогрессивной, она становится началом разрушительным и революционным» (П. Новгородцев).
Не это ли произошло в 1917?

Михаил Осипович Гершезон. Карандашный набросок работы В. Ходасевича
Михаил Гершензон. Предисловие к сборнику «Вехи»
Не для того, чтобы с высоты познанной истины доктринерски судить русскую интеллигенцию, и не с высокомерным презрением к ее прошлому писаны статьи, из которых составился настоящий сборник, а с болью за это прошлое и в жгучей тревоге за будущее родной страны. Революция 1905–6 гг. и последовавшие за нею события явились как бы всенародным испытанием тех ценностей, которые более полувека как высшую святыню блюла наша общественная мысль. Отдельные умы уже задолго до революции ясно видели ошибочность этих духовных начал, исходя из априорных соображений; с другой стороны, внешняя неудача общественного движения сама по себе, конечно, еще не свидетельствует о внутренней неверности идей, которыми оно было вызвано. Таким образом, по существу поражение интеллигенции не обнаружило ничего нового. Но оно имело громадное значение в другом смысле: оно, во-первых, глубоко потрясло всю массу интеллигенции и вызвало в ней потребность сознательно проверить самые основы ее традиционного мировоззрения, которые до сих пор принимались слепо на веру; во-вторых, подробности события, т. е. конкретные формы, в каких совершились революция и ее подавление, дали возможность тем, кто в общем сознавал ошибочность этого мировоззрения, яснее уразуметь грех прошлого и с большей доказательностью выразить свою мысль. Так возникла предлагаемая книга: ее участники не могли молчать о том, что стало для них осязательной истиной, и вместе с тем ими руководила уверенность, что своей критикой духовных основ интеллигенции они идут навстречу общесознанной потребности в такой проверке.
Люди, соединившиеся здесь для общего дела, частью далеко расходятся между собою как в основных вопросах «веры», так и в своих практических пожеланиях: но в этом общем деле между ними нет разногласий. Их общей платформой является признание теоретического и практического первенства духовной жизни над внешними формами общежития, в том смысле, что внутренняя жизнь личности есть единственная творческая сила человеческого бытия и что она, а не самодовлеющие начала политического порядка, является единственно прочным базисом для всякого общественного строительства. С этой точки зрения идеология русской интеллигенции, всецело покоящаяся на противоположном принципе – на признании безусловного примата общественных форм, – представляется участникам книги внутренно ошибочной, т. е. противоречащей естеству человеческого духа, и практически бесплодной, т. е. неспособной привести к той цели, которую ставила себе сама интеллигенция, – к освобождению народа. В пределах этой общей мысли между участниками нет разногласий. Исходя из нее, они с разных сторон исследуют мировоззрение интеллигенции, и если в некоторых случаях, как, например, в вопросе о ее „религиозной» природе, между ними обнаруживается кажущееся противоречие, то оно происходит не от разномыслия в указанных основных положениях, а оттого, что вопрос исследуется разными участниками в разных плоскостях.
Мы не судим прошлого, потому что нам ясна его историческая неизбежность, но мы указываем, что путь, которым до сих пор шло общество, привел его в безвыходный тупик. Наши предостережения не новы: то же самое неустанно твердили от Чаадаева до Соловьева и Толстого все наши глубочайшие мыслители. Их не слушали, интеллигенция шла мимо них. Может быть, теперь разбуженная великим потрясением, она услышит более слабые голоса.
Петр Струве. Интеллигенция и революция
Россия пережила до новейшей революции, связанной с исходом русско-японской войны, два революционных кризиса, потрясших народные массы: смутное время, как эпилог которого мы рассматриваем возмущение Разина, и пугачевщину. То были крупные потрясения народной жизни, но мы напрасно стали бы искать в них какой-либо религиозной и политической идеи, приближающей их к великим переворотам на Западе. Нельзя же подставлять религиозную идею под участие раскольников в пугачевском бунте? Зато в этих революциях, неспособных противопоставить что-либо исторической государственности и о нее разбившихся, с разрушительной силой сказалась борьба социальных интересов.
Революция конца XVI и начала XVII вв. в высшей степени поучительна при сопоставлении с пережитыми нами событиями. Обычно после революции и ее победы торжествует реакция в той или иной форме. Смута начала XVII века представляет ту оригинальную черту, что в этой революции как таковой, как народном движении непосредственно, минуя реакцию, одержали верх здоровые государственные элементы общества. И с этой чертой связана другая, не менее важная: «смута» была не только социальным движением, не только борьбой за политическую власть, но огромным движением национально-религиозной самозащиты. Без польского вмешательства великая смута 1598–1613 гг. была бы рядом придворных интриг и переворотов, чередующихся с бессильными и бессвязными бунтами анархических элементов тогдашнего общества. Польское вмешательство развернуло смуту в национально-освободительную борьбу, в которой во главе нации стали ее консервативные общественные силы, способные на государственное строительство. Если это была великая эпоха, то не потому, что взбунтовались низы. Их бунт не дал ничего.
Таким образом, в событиях смуты начала XVII века перед нами с поразительной силой и ясностью выступает неизмеримое значение государственного и национального начал. С этой точки зрения особенно важен момент расхождения и борьбы государственных, земских элементов с противогосударственными, казачьими. За иллюзию общего дела с «ворами» первый вождь земства Прокопий Ляпунов поплатился собственной жизнью и полным крушением задуманного им национального предприятия. Те «последние люди московского государства», которые по зову патриарха Гермогена встали на спасение государства и под предводительством Минина и Пожарского довели до конца дело освобождения нации и восстановления государства, совершили это в борьбе с противогосударственным «воровством» анархических элементов. В указанном критическом моменте нашей допетровской «смуты», в его общем психологическом содержании чувствуется что-то современное, слишком современное…
Социальные результаты смуты для низов населения были не только ничтожные, они были отрицательные, Поднявшись в анархическом бунте, направленном против государства, оседлые низы только увеличили свое собственное закрепощение и социальную силу «господ». И вторая волна социальной смуты XVII в., движение, связанное с именем Стеньки Разина, стоившее множества жертв, бессмысленно-жестокое, совершенно «воровское» по своим приемам, так же бессильно, как и первая волна, разбилась о государственную мощь.
В этом отношении пугачевщина не представляет ничего нового, принципиально отличного от смуты 1598–1613 гг. и от разиновщины. Тем не менее социальный смысл и социальное содержание всех этих движений и в особенности пугачевщины громадны: они могут быть выражены в двух словах – освобождение крестьян. Пугачев манифестом 31 июля 1774 года противогосударственно предвосхитил манифест 19-го февраля 1861 г. Неудача его «воровского» движения была неизбежна: если освобождение крестьян в XVIII и в начале XIX в. было для государства и верховной власти – по причинам экономическим и иным – страшно трудным делом, то против государства и власти осуществить его тогда было невозможно. Дело крестьянского освобождения было не только погублено, но и извращено в свою противоположность «воровскими» противогосударственными методами борьбы за него.
Носителем этого противогосударственного «воровства» было как в XVII, так и в XVIII в. «казачество» «Казачество» в то время было не тем, чем оно является теперь: не войсковым сословием, а социальным слоем всего более далеким от государства и всего более ему враждебным. В этом слое были навыки и вкусы к военному делу, которое, впрочем, оставалось у него на уровне организованного коллективного разбоя.
Пугачевщина была последней попыткой казачества поднять и повести против государства народные низы. С неудачей этой попытки казачество сходит со сцены как элемент, вносивший в народные массы анархическое и противогосударственное брожение. Оно само подвергается огосударствлению, и народные массы в своей борьбе остаются одиноки, пока место казачества не занимает другая сила. После того как казачество в роли революционного фактора сходит на нет, в русской жизни зреет новый элемент, который – как ни мало похож он на казачество в социальном и бытовом отношении – в политическом смысле приходит ему на смену, является его историческим преемником. Этот элемент – интеллигенция.
Слово «интеллигенция» может употребляться, конечно, в различных смыслах. История этого слова в русской обиходной и литературной речи могла бы составить предмет интересного специального этюда.
Нам приходит на память, в каком смысле говорил в тургеневской «Странной истории» помещик-откупщик: «У нас смирно; губернатор меланхолик, губернский предводитель – холостяк. А впрочем, послезавтра в дворянском собрании большой бал. Советую съездить: здесь не без красавиц. Ну, и всю нашу интеллигенцию вы увидите». Мой знакомый, как человек, некогда обучавшийся в университете, любил употреблять выражения ученые. Он произносил их с иронией, но и с уважением. Притом известно, что занятие откупами, вместе с солидностью, развивало в людях некоторое глубокомыслие».
Мы разумеем под интеллигенцией, конечно, не публику, бывающую на балах в дворянском собрании.
Мы разумеем под этим наименованием даже не «образованный класс». В этом смысле интеллигенция существует в России давно, ничего особенного не представляет и никакой казаческой миссии не осуществляет. В известной мере «образованный класс» составляла в России всегда некоторая часть духовенства, потом первое место в этом отношении заняло дворянство.
Роль образованного класса была и остается очень велика во всяком государстве; в государстве отсталом, лежавшем не так давно на крайней периферии европейской культуры, она, вполне естественно, является громадной.
Не об этом классе и не об его исторически понятной, прозрачной роли, обусловленной культурною функцией просвещения, идет речь в данном случае. Интеллигенция в русском политическом развитии есть фактор совершенно особенный: историческое значение интеллигенции в России определяется ее отношением к государству в его идее и в его реальном воплощении.
С этой точки зрения интеллигенция, как политическая категория, объявилась в русской исторической жизни лишь в эпоху реформ и окончательно обнаружила себя в революцию 1905–07 гг.
Идейно же она была подготовлена в замечательную эпоху 40-х гг.
В облике интеллигенции, как идейно-политической силы в русском историческом развитии, можно различать постоянный элемент, как бы твердую форму, и элемент более изменчивый, текучий – содержание. Идейной формой русской интеллигенции является ее отщепенство, ее отчуждение от государства и враждебность к нему.
Это отщепенство выступает в духовной истории русской интеллигенции в двух видах: как абсолютное и как относительное. В абсолютном виде оно является в анархизме, в отрицании государства и всякого общественного порядка как таковых (Бакунин и князь Кропоткин). Относительным это отщепенство является в разных видах русского революционного радикализма, к которому я отношу прежде всего разные формы русского социализма. Исторически это различие между абсолютным и относительным отщепенством несущественно (хотя анархисты на нем настаивают), ибо принципиальное отрицание государства анархизмом есть нечто в высокой степени отвлеченное, так же как принципиальное признание необходимости общественной власти (т. е. в сущности государства) революционным радикализмом носит тоже весьма отвлеченный характер и стушевывается пред враждебностью к государству во всех его конкретных определениях. Поэтому в известном смысле марксизм, с его учением о классовой борьбе и государстве как организации классового господства, был как бы обострением и завершением интеллигентского противогосударственного отщепенства.
Но мы определили бы сущность интеллигенции неполно, если бы указали на ее отщепенство только в вышеочерченном смысле. Для интеллигентского отщепенства характерны не только его противогосударственный характер, но и его безрелигиозность. Отрицая государство, борясь с ним, интеллигенция отвергает его мистику не во имя какого-нибудь другого мистического или религиозного начала, а во имя начала рационального и эмпирического.

Петр Бернгардович Струве
В этом заключается глубочайшее философское и психологическое противоречие, тяготеющее над интеллигенцией. Она отрицает мир во имя мира и тем самым не служит ни миру, ни Богу. Правда, в русской литературе с легкой руки, главным образом, Владимира Соловьева установилась своего рода легенда о религиозности русской интеллигенции. Это, в сущности. – применение к русской интеллигенции того же самого воззрения, – на мой взгляд поверхностного и не выдерживающего критики, – которое привело Соловьева к его известной реабилитации, с точки зрения христианской и религиозной, противорелигиозных мыслителей. Разница только в том, что западно-европейский позитивизм и рационализм XVIII в. не в такой полной мере чужд религиозной идеи, как тот русский позитивизм и рационализм XIX в., которым вспоена вся наша интеллигенция.
Весь недавно очерченный максимализм русской интеллигенции, формально роднящий ее с образом ибсеновского Бранда («все или ничего!»), запечатлен указанным выше противоречием, и оно вовсе не носит отвлеченного характера; его жизненный смысл пронизывает всю деятельность интеллигенции, объясняет все ее политические перипетии.
Говорят, что анархизм и социализм русской интеллигенции есть своего рода религия. Именно в вышеуказанном максимализме было открыто присутствие религиозного начала. Далее говорят, что анархизм и социализм суть лишь особые формы индивидуализма и так же, как последний, стремятся к наибольшей полнотой красоте индивидуальной жизни, и в этом, говорят, их религиозное содержание. Во всех этих и подобных указаниях религия понимается совершенно формально и безыдейно.
После христианства, которое учит не только подчинению, но и любви к Богу, основным неотъемлемым элементом всякой религии должна быть, не может не быть вера в спасительную силу и решающее значение личного творчества или, вернее, личного подвига, осуществляемого в согласии с волей Божией. Интересно, что те догматические представления новейшего христианства, которые, как кальвинизм и янсенизм, доводили до высшего теоретического напряжения идею детерминизма в учении о предопределении, рядом с ней психологически и практически ставили и проводили идею личного подвига. Не может быть религии без идеи Бога, и не может быть ее без идеи личного подвига.
Вполне возможно религиозное отщепенство от государства. Таково отщепенство Толстого. Но именно потому, что Толстой религиозен, он идейно враждебен и социализму, и безрелигиозному анархизму, и стоит вне русской интеллигенции.
Основная философема социализма, идейный стержень, на котором он держится как мировоззрение, есть положение о коренной зависимости добра и зла в человеке от внешних условий. Недаром основателем социализма является последователь французских просветителей и Бентама Роберт Оуэн, выдвинувший учение об образовании человеческого характера, отрицающее идею личной ответственности.
Религия так, как она приемлема для современного человека, учит, что добро в человеке всецело зависит от его свободного подчинения высшему началу. Основная философема всякой религии, утверждаемой не на страхе, а на любви и благоговении, – есть «Царство Божие внутри вас есть».
Для религиозного миросозерцания не может поэтому быть ничего более дорогого и важного, чем личное самоусовершенствование человека, на которое социализм принципиально не обращает внимания.
Социализм в его чисто-экономическом учении не противоречит никакой религии, но он как таковое не есть вовсе религия. Верить («верую, Господи, и исповедую») в социализм религиозный человек не может, так же как он не может верить в железные дороги, беспроволочный телеграф, пропорциональные выборы.
Восприятие русскими передовыми умами западно-европейского атеистического социализма – вот духовное рождение русской интеллигенции в очерченном нами смысле. Таким первым русским интеллигентом был Бакунин, человек, центральная роль которого в развитии русской общественной мысли далеко еще не оценена. Без Бакунина не было бы «полевения» Белинского и Чернышевский не явился бы продолжателем известной традиции общественной мысли. Достаточно сопоставить Новикова, Радищева и Чаадаева с Бакуниным и Чернышевским для того, чтобы понять, какая идейная пропасть отделяет светочей русского образованного класса от светочей русской интеллигенции. Новиков, Радищев, Чаадаев – это воистину Богом упоенные люди, тогда как атеизм в глубочайшем философском смысле есть подлинная духовная стихия, которою живут и Бакунин в его окончательной роли, и Чернышевский с начала и до конца его деятельности. Разница между Новиковым, Радищевым и Чаадаевым, с одной стороны, и Бакуниным и Чернышевским, с другой стороны, не есть просто «историческое» различие. Это не звенья одного и того же ряда, это два по существу непримиримые духовные течения, которые на всякой стадии развития должны вести борьбу.
В 60-х годах, с их развитием журналистики и публицистики, «интеллигенция» явственно отделяется от образованного класса как нечто духовно особое. Замечательно, что наша национальная литература остается областью, которую интеллигенция не может захватить. Великие писатели Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Чехов не носят интеллигентского лика. Белинский велик совсем не как интеллигент, не как ученик Бакунина, а главным образом как истолкователь Пушкина и его национального значения. Даже Герцен, несмотря на свой социализм и атеизм, вечно борется в себе с интеллигентским ликом. Вернее, Герцен иногда носит как бы мундир русского интеллигента, и расхождение его с деятелями 60-х годов не есть опять-таки просто исторический и исторически обусловленный факт конфликта людей разных формаций культурного развития и общественной мысли, а нечто гораздо более крупное и существенное. Чернышевский по всему существу своему другой человек, чем Герцен. Не просто индивидуально другой, а именно другой духовный тип.