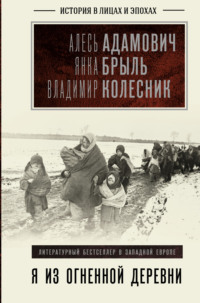Kitobni o'qish: «Я из огненной деревни»
© Авторы, наследники, 2022
© ООО «Издательство АСТ»
* * *
Сергей Шапран. Они были первыми
Почти пятьдесят лет прошло с тех пор, как белорусские писатели Алесь Адамович, Янка Брыль и Владимир Колесник закончили работу над книгой-документом «Я из огненной деревни…» (в оригинале – «Я з вогненнай вёскi…»), где были приведены, как говорилось в аннотации, «свидетельства уцелевших жителей из сотен белорусских деревень, сожжённых фашистами вместе с людьми». Впрочем, еще в ходе работы над авторами не раз нависал Дамоклов меч цензуры, едва не похоронивший книгу…
Идея этой книги родилась у Алеся Адамовича в конце 1960-х годов. Толчком послужила работа над короткометражным документальным фильмом Игоря Коловского «Хатынь, 5 км» (снятом в 1968-м и запрещённом на двадцать лет после первого же просмотра), а затем и над «Хатынской повестью». Известный белорусский литературовед Михась Тычина отмечал: хотя повесть имела хорошую прессу, однако Адамович жил с ощущением «литературного поражения». Сам он говорил: «Выявил, поднял, показал одну только крупицу правды, каплю с того, что увидел, понял, а бездонный океан народной, огненной, хатынской памяти остался, там же, неслышимый, невидимый миру».
Так пришла мысль о документальной книге.
Никакой художественный вымысел не сравнится с правдой жизни, тем более, если реальность сурова и кровава. Свидетельства спасшихся жителей сожжённых деревень звучали откровением. Но голос простого человека – почти всегда откровение. Художественной литературой он – хор простых человеческих голосов – ещё почти не был освоен, во всяком случае так, как это будет сделано в книге «Я из огненной деревни…», а затем в «Блокадной книге» Алеся Адамовича и Даниила Гранина и спустя годы в цикле Светланы Алексиевич «Голоса утопии».
Адамович не один год будет собирать документальные свидетельства, а уже потом, в процессе работы над книгой, засвидетельствует в дневнике: «Возможно, действительно кто-то должен это сделать, записать, через себя пропустить всё это к людям… Чем станешь, что будет с тобой потом, если всё это откладывается? И станет твоей собственной памятью. Смотреть на мир через это придётся уже до конца дней своих. И пробовать смотреть на человека, как все. А сможешь ли? Рядом всегда будет то, что отложилось. Сегодня впервые стало страшновато, что не выдержу до конца».
…1971 год. Алесь Адамович, Янка Брыль и Владимир Колесник уже вовсю колесят по Беларуси, разыскивая тех, кто уцелел в пожарищах войны. Иван Антонович Брыль вспоминал:
– Сначала наша работа напоминала, если можно так сказать, эдакую самодеятельность, поскольку своего магнитофона у нас не было – мы его одалживали. В 1970 году была «Весна», а позже нас надоумили одолжить репортёрский магнитофон в Радиокомитете. Там же покупали плёнку. Правда, завхоз Радиокомитета постоянно подсовывал нам «бэушную» плёнку. Она, уже записанная, хранилась потом там же, в Радиокомитете, но числилась не за нами, а за заведующим отделом комитета поэтом Малявкой – будто бы это его были записи, а не наши. Мы ведь поначалу работали по существу тайно. Это позже нам стал помогать один из заместителей председателя Радиокомитета Михаил Андреевич Суша, благородный, надо заметить, человек. А уже в 1973 году, когда работали в последней, в Минской области, подключился и секретарь ЦК КПБ по идеологии Александр Кузьмин, интересный тоже был человек – он и с Адамовичем дружил, и ко мне хорошо относился. Именно Кузьмин отдал поручение всю нашу «бэу» плёнку – а мы записали 72 километра! – переписать в двух экземплярах уже на хорошую плёнку с тем, чтобы навсегда сохранить эти свидетельства.
В двух экземплярах были сданы в рукописный архив библиотеки Академии наук и фотографии Владимира Колесника. Туда же передали карту, на которой в течение четырёх лет отмечали маршрут экспедиции. Отдали на хранение и черновики, точнее сказать – машинописный вариант, поскольку собственно черновик авторы торжественно сожгли, чтобы никто никогда не узнал, кто из троих что именно написал.
– Это сугубо наше дело, – говорил мне Янка Брыль. – Что ж тут делить? Теперь только я один наверняка знаю, кто что написал. А если кто хочет, пусть догадывается…
Однако редактор книги Василь Сёмуха, не зная в точности, кто над какой главой работал, имел своё мнение относительно авторства:
– В аналитическом разделе про фашизм явно чувствуется рука Адамовича – она ощущается в каждой строчке. Адамович в большей степени публицист. Но когда идут небольшие комментарии, тут уж разгадать, где Колесник, где Брыль, а где Адамович, очень тяжело. Однако во вступлениях к рассказам Брыль узнаётся легко, поскольку так писать он умел, умеет и будет уметь писать! Но они так и не выдали, кто что конкретно написал. Более того: один писал, а другой читал и правил, и – наоборот. Поэтому, я бы сказал, здесь один автор в трёх лицах. Плюс четвёртый – это каждый рассказчик.
Василь Сергеевич сам настоял на том, чтобы редактором был он. Хотя одному Богу было известно, чего это ему стоило, поскольку судьба Василя Сёмухи была подобна судьбе героев книги: в 1942 году фашисты расстреляли его родителей, а хутор, на котором жила семья, сожгли…
– Едва узнал о рукописи, сразу прочитал её и понял, что редактировать должен я, – рассказывал мне Василь Сергеевич. – Правда, не помню, кому именно из троих авторов сказал об этом. Но когда они пришли, первым заговорил Иван Антонович Брыль, очень деликатный человек. Немного помявшись, он сказал:
– Вася, может, не надо Вам редактировать эту книгу?
– Почему, Иван Антонович?
– Я понимаю, что Вам будет очень больно это делать.
– Да, больно. Но я считаю прямой своей обязанностью от этого не уклоняться и делать то, что и вы делали.
Я ведь сам из точно такой же огненной деревни, один остался в живых…
Над книгой я работал очень кропотливо. Там же было три автора, поэтому у одного одна запись, у другого – другая, у третьего – третья. Они кого-то цитируют, а цитата не совпадает! В общем, постоянная неразбериха. Она возникала, в частности, тогда, когда записи вёл Адамович. Брыль даже смеялся по этому поводу: «Мы приходим, Адамович спрашивает: «Ну, как Вас зовут?» – «Анна Михайловна». – «Так мы, Ольга Максимовна, хотели у Вас спросить…»
Кроме того, существовала иная проблема. Люди же говорили на своих диалектах, а авторы нередко «переводили» эти рассказы на литературный язык. Но не всегда так следовало поступать. Пусть люди говорят так, как говорят. Ведь как, например, передать говор полешуков?..
Впрочем, всех троих беспокоило прежде всего то, чтобы работа над книгой не слишком ранила редактора. Ведь узнавать сцены из своей жизни, заново их переживать, было, конечно, тяжело. Но только одно то, что я должен был выполнить эту работу, и принуждало меня… нет, не принуждало – я считал это своей обязанностью.
Правда, с публикацией книги сразу возникли проблемы: печатать её отказался «толстый» литературный журнал «Полымя» («Пламя»), но зато принял к публикации молодёжный журнал «Маладосць» («Молодость»), возглавлял который известный поэт Геннадий Буравкин. Впоследствии он вспоминал:
– В журнале «Полымя» книгу не просто не приняли, а не приняли по политическим мотивам. И те, кто меня об этом предупредил, думали, что я испугаюсь и так же, как говорят, брошусь в кусты. Но меня это не напугало. Единственное, что, конечно, добавило хлопот, поскольку придирались к каждой странице, к каждому факту и эпизоду. И всё-таки и я, и Вячеслав Адамчик, как заместитель, и остальные в редакции – мы были убеждены, что книгу необходимо печатать. И хотя в ЦК КПБ упорно боролись «против», мы упорно сражались «за»…
Что же касается выхода уже отдельной книгой, то и тут поначалу, мягко говоря, не заладилось, поскольку у председателя Государственного комитета Совета министров БССР по печати, полиграфии и книжной торговле Михаила Дельца было ни много, ни мало, а 96 замечаний, и одно абсурднее другого.
– Ваши герои – бедные люди, неряшливые, небритые, – то была первая претензия.
– Приходим мы к человеку, он не брит, и мы должны ему предложить: иди побрейся, а потом уже будешь рассказывать, как в огне горел? – спрашивал Адамович. – Или ещё подсказать, чтобы фрак надел? А если люди бедные, нам что, подождать, пока они разбогатеют?
Книгу спас секретарь ЦК КПБ по идеологии Александр Кузьмин, в прошлом отважный военный лётчик, с уважением относившийся к белорусским писателям. Он был предупрежден о том, что авторам «Огненной деревни» назначена аудиенция у председателя Комитета по печати и как раз в это время и позвонил Михаилу Дельцу. В результате из 96-и замечаний остались лишь два.
– А где ещё 94? – сыронизиловал Адамович.
– Ай, ну что вы! – отмахнулся Делец.
Но была середина 1970-х, и авторы сами прекрасно понимали, что́ может не пропустить Главлит (Главное управление по делам литературы и издательств СССР), эдакая Мекка советской цензуры. Василь Сёмуха вспоминал:
– Авторы говорили мне, что люди рассказывали им всю правду и про фашистов, и про партизан. Но всю её цензура не пропустила бы. Я, например, только теперь читаю в прессе, как, например, советские партизаны воевали с польскими партизанами, как советские партизаны расстреливали в деревнях простых людей, отбирали еду. Это ж проблема была! Я сам в войну жил в деревне, и мы боялись некоторых партизан не меньше, чем немцев: эти шастали каждый день, и всех мы знали в лицо, а партизаны придут и отберут, потом придут немцы и скажут: «Ты отдал партизанам!» – и тут же к стенке поставят…
Действительно, один из авторов, Янка Брыль, рассказывал позже, что́ именно они были вынуждены изъять из книги по соображениям цензуры:
«Из полесской деревни Хвойня в канун весны сорок второго молодая женщина, беременная первым ребенком, раненая, с ожогами, полученными в огне своей же хаты, километрами морозно-снежного бездорожья несла на себе измученного гранатой мужа. Потом немного подвезла его на партизанских санях, а после, перевязанного партизанским лекарем, тащила полем да лесом на саночках. И всё убегая, прячась от карателей, больная, голодная, измученная жаждой, в страхе за себя, за мужа, за ту потаённую жизнь, которую несла под сердцем неведомо куда…
И горше всего она, Ольга Минич, расплакалась, когда подошла к своей исповеди о встрече с группой партизан. Она уже была одна, потому что совсем неожиданно столкнулась с немцами и, охваченная ужасом, не в силах была убежать со своими санками с железнодорожной насыпи в лес, потеряла мужа, а сама, раненная снова, вдогонку, ещё раз встретила своих, ещё раз спасение. И тут…
Тут она зарыдала в чистенькое, вышитое по краям полотенце, а потом, вытерев лицо, такая не старая, быстрая в свои пятьдесят лет, взорвалась беспомощным проклятием. Назвала фамилию командира той партизанской группы – Чирлин. Не только помнится ей, та фамилия, – она её видела под портретом в районном музее народной славы. А он же, этот командир, хотел её тогда добить. Не из винтовки, звук выстрела могут услышать враги, а заколоть кинжалом – как шпионку!.. Ни раны её, ни страдания, ни плач – ничто не рассеивало его подозрений. Другие партизаны едва его отговорили.
В нашей книге от этого места в её рассказе осталось две фразы:
«Всё, как было, рассказала. А командир мне не верит…».
Многоточие – будто с надеждой, что и по точкам читатель догадается.
В снятом с магнитофонной плёнки тексте для будущей книги, который мы оставили себе, женщина говорила так:
«Я его, это, честное слово, каб разыскала… Нехорошо это… Я его отблагодарила б!.. Я его разыскивала… Где-то директором винзавода работает… Ну, я уже шла в этот лес, шла, шла и нашла всех тех, Чирлина отряд тот. Всё, как было, рассказала. А потом уже и выстрел был там, где я санки оставила, где женщины у огня сидели. А потом я уже хочу идти назад, а он на меня кинулся с этим, со штыком, и говорит: «Заколоть её надо!» «Она, – говорит, – узнала, где мы, пойдёт доложить!..» Я прямо душу вынимаю, говорю – я хочу вернуться труп забрать. А как он сказал заколоть, так эти дети: «Ой, ой, ой!..» – боятся, они ж дети. Так он дал команду хлопцам двум: «Посадите её и отвезите в Затишье». Так я думаю: «Ну, тут дети боятся, как бы не убили, так они меня посадят, отвезут в лес и убьют…» Да уже села и думаю: «А Господи, скорей бы это уже!» Да не угадала. Привезли они меня в Затишье, скинули на селе. Я зашла в несколько хат…»
Такое через цензуру в то время, в середине семидесятых, пройти не могло.
Спустя год после встречи в Хвойне, уже на Витебщине, были другие похожие слёзы. Только потише, с испуганной предосторожностью, из глаз женщины беспомощно старенькой, бывшей сельской учительницы. Впрочем, и предосторожности особой у неё не было. То ли она к нам прониклась доверием, то ли ей было уже всё равно, остерегаться или не остерегаться, и она рассказала.
Не помню уже и района, не только деревни, где это в тот предвечерний час было, не помню и фамилии старухи, – в памяти только тот тихий плач, тот рассказ, как их деревню, их людей расстреливали и жгли –свои…
Какой-то отряд приказал им накануне выбраться в лес, потому что ночью или на рассвете, мол, явятся каратели и всех перебьют. Люди не послушались: «Ну, куда ж это зимой выбираться, куда идти с малыми да старыми из родных мест? Что уж Бог даст…». Немцы тогда не пришли. Назавтра пришли свои, те самые. Восемьдесят человек было убито, деревня сожжена…
Женщине этой, тоже чудом, как некоторым в других огненных деревнях от врага, тут от своих удалось спастись. Прижилась потом в другой деревне, где мы её и записывали. Она и фамилию командира над теми, что их карали, назвала, и мы её, ту фамилию, потом прочитали под портретом в областном музее.
А запись рассказа в гостинице, посоветовавшись, стёрли с магнитофонной ленты в тот самый вечер, как услышали его.
Теперь так часто слышится, читается о страхе, которым основательно и надолго, а то и навсегда заражены современники Сталина. Тиран умер, а страх остался, точно подновившись…
И в нас, трёх партизанах, и, кажется, не слишком трусливых литераторах, – тоже. И страх ли это, обыкновенный, животный страх за самого себя, или «мудро-тактическая осторожность», озабоченность успехом, судьбой дела, которое ты делаешь и хочешь сделать? Книгу свою мы хотели сделать, мы уже были одержимы ею, уже собрали половину необходимого материала, работали в четвёртой из шести областей республики, и не были безразличны к судьбе будущей книги, которую считали нужной.
Куда было с этой необычной записью деваться? Не только не напечатаешь её, но и снимать с ленты, переписывать с одолженного в Радиокомитете репортёрского магнитофона на большие бобины, для хранения, диктовать машинистке для публикации – всё на людях, всё опасно…»
Изначально писал всё это Янка Брыль, что называется, в стол, поскольку шёл 1988 год. Как вдруг через год – звонок от Адамовича – он спрашивал, не помнит ли Брыль фамилию учительницы с Витебщины и того командира, что расправился со своими. (В 1992 году Алесь Адамович описал это, используя реальную фамилию командира партизанского отряда – Ваграм Калайджан, в повести «Венера, или Как я был крепостником».) Дело в том, что авторы «Огненной деревни» следующим образом делили обязанности: Адамович управлялся с магнитофоном, Колесник – с фотоаппаратом, у Брыля был блокнот. И вот Иван Антонович в своём блокноте за июнь 1972 года нашёл такую помету: рассказывала учительница Вера Петровна Слобода, что из деревни Дубровы возле Освеи. Оказалось, что командиров она назвала двоих: Калайджана и Блинова. Оба значатся в книге «Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой Отечественной войны»: Калайджан Ваграм Погосович и… с Блиновым оказалось сложнее – Блиновых было трое. Скорее всего, речь шла о Блинове Дмитрии Кузьмиче. Брыль пытался навести справки в архиве Музея истории Великой Отечественной войны.
«Когда я назвал, прежде всего, фамилию Калайджана, доброжелательно-старательная сотрудница сказала, что этим человеком год или полтора назад «снова интересовались», – вспоминал Иван Антонович. – В картотеке на его анкете значится: «Отрицательная справка тов. Захарова».
В личном архиве командира Освейской бригады имени Фрунзе героя Советского Союза Ивана Кузьмича Захарова, который умер уже давненько, среди других материалов хранится написанная им собственноручно, на двух листах справка, адресованная куда-то выше музея…
Сначала Калайджан справлялся с обязанностями хорошо, даже к награде был представлен, а потом (здесь цитирую дословно):
«Разведкой при помощи партизан были вскрыты крупные недостатки, из которых самым страшным в наших условиях были необузданные самолюбие и властолюбие…
Самолично давал распоряжения о расстрелах».
Так, по его приказу в одном из боёв кто-то не названный в справке «пристрочил» якобы «за трусость» начальника штаба отряда, потом был расстрелян начальник полиции, который перешёл к партизанам и просил отправить его на Большую землю.
«Имели место и другие факты», – пишет товарищ Захаров. Выходит на наше основное:
«Во время карательной фашистской экспедиции в марте 1943 года скрывающих(ся) 9 семей с маленькими ребятишками из дер. Дубровы в лесу под видом полицейских также по его приказу были расстреляны. (Как потом выяснилось, никакие они не полицейские, местные жители)».
Позже Калайджан (существенное уточнение: лейтенант внутренних войск) будто бы попал в штрафную роту. Блинова же комбриг Захаров не упоминал: или не имел Блинов Д. К. отношения к преступлению в Дубровах, или был какой-то иной Блинов…
Сразу после выхода книги авторы всем, с кем беседовали, – а это более трёхсот человек – разослали по экземпляру с дарственными автографами. Книга не только неоднократно переиздавалась в Беларуси, но и была переведена с белорусского на русский, украинский, чешский, английский, венгерский, польский и болгарский языки, фрагменты печатали румыны и словаки. Правда, возникли некоторые проблемы с польским изданием. Янка Брыль рассказывал: