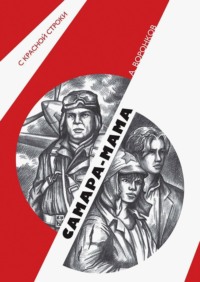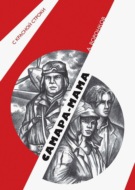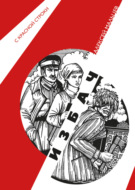Kitobni o'qish: «Самара-мама»
* * *
© Издательство «РуДа», 2022
© А. А. Воронков, текст, 2022
© Д. С. Селевёрстов, иллюстрации, 2022
© Н. В. Мельгунова, художественное оформление, 2022
* * *
Моему отцу и его друзьям, бывшим самарским беспризорникам, которые, преодолев все жизненные невзгоды, сумели стать достойными людьми, посвящаю.

От автора
В этом романе я не старался взять на себя роль историка, чтобы скрупулезно исследовать те или иные события столетней давности – просто я хотел художественным языком рассказать о том, что в свое время услышал от своего отца и его друзей детства, оставшихся после Гражданской войны сиротами, а также, опираясь на подлинно исторические факты, почерпнутые мной из архивов и открытых источников, воссоздать атмосферу послереволюционной России.
Часть первая
Безотцовщина
1
Не успела Александра накрыть стол в горенке, как в окошко кто-то негромко постучал. Дети, занявшие было свои места за столом, выжидающе посмотрели на мать. Дескать, а ты не хочешь взглянуть, кто это там к нам пришел? Но мать не спешила. Ну кто добрый к ним может прийти? Муж – на фронте, разве что кто из кулаков, которые после недавнего переворота пленных белочехов подняли головы. А то ведь еще недавно, когда в губернии заправляли большевики, нос свой боялись высунуть на улицу. А теперь рыщут повсюду, все пытаются обнаружить очередного прибывшего на побывку с фронта красноармейца. Они и к Сокольниковым уже не раз наведывались и ее, Александру, расспрашивали с пристрастием, где, мол, сейчас находится Сергей и давно ли он приезжал домой. Вот и сейчас, поди, кто-нибудь из этих дьяволов явился, чтобы что-то вынюхать…
Александра подошла к окну, приоткрыла занавеску и увидела худого бородатого человека в длиннополой солдатской шинели с трехлинейкой за плечами.
«Ба! Да это же мой Сережка», – екнуло у нее сердце. Нет, не случайно она так беспокойно спала эту ночь. И все думала о нем, своем Сереже. Где он? Жив ли? Здоров ли?.. Не забыл ли ее? А ведь она уже измучилась его ждать. Как в 1914-м взяли его на Германскую, так до сих пор и воюет. Когда с немцами был подписан мирный договор, решила, что все муки ее кончились, дескать, вот сейчас вернется домой Сергей, за которого она за год до начала войны вышла замуж, и они заживут, наконец, по-людски. Хватит уже горе мыкать. Чай, пятерых детей нарожали, а пожить-то по-настоящему еще и не пожили.
Бывало, приедет муж на побывку, налюбятся они, наласкаются, после чего она непременно понесет, и когда он в следующий раз явится в краткосрочный отпуск, то знакомится с очередным новорожденным дитем. Так что без отца начинался долгий путь младших Сокольниковых по жизни. Считай, не родители, а мать с отцом Александры их воспитанием занимались. Там их и кормили-поили, там и ласку они получали да читать-писать учились. А то ведь Александре одной не справиться было. А Сережка получит очередной отпуск в своей части, заглянет на денек, а потом снова на фронт возвращается. Ну, когда с немцами шла война, было понятно – надо землю родную защищать. А теперь-то что это за война? Брат пошел на брата – и воюют, окаянные, друг против дружки, словно злейшие враги. Вот и Сергей говорил, что нехорошая это война. «Так бросай тогда все и возвращайся домой!» – сказала ему Александра. Но разве он вернется? Эти большевики еще на фронте затуманили ему мозги своими байками о жизни лучшей. Сам рассказывал, как их там эти социалисты агитировали, книжки всякие запретные давали читать, против царя настраивали. Так с войны и вернулся другим человеком. Ему бы к детишкам, а он, понимаешь, в какую-то Красную гвардию подался к своему фронтовому товарищу по фамилии Чапаев. Теперь воюют со своими же, с теми, кто не поддался агитации этих бунтарей, кто решил за царя стоять до конца. Ну не дело это – воевать со своими. Правда, такое уже было в давние времена, когда в стране все было поделено на княжества, которые не могли ужиться друг с другом, и о том в книжках прописано, что покоятся в библиотеке ее отца, Петра Алексеевича Уралова, чьи предки верой и правдой служили государям, за что и получали высокие награды, звания и титулы. Был среди них даже один царский министр, который отвечал не то за образование, не то за науку в России. Были придворные люди, всякие там графья да князья, а также генералы, прославившие свою фамилию – одни в войне с Наполеоном, другие во время кавказских и крымских кампаний.
2
От отца своего Петра Алексеевича Александра знала, что Ураловы с незапамятных времен принадлежали к привилегированному слою однодворцев и даже находились в родстве с самарским дворянским родом Ураловых. В конце XVIII века здешние кураповские Ураловы владели крепостными крестьянами; род их был наиболее многочисленным в Кураповке. У одной из ветвей рода, если верить документам, находилось во владении четыре крепостные души. Через несколько лет после отмены крепостного права однодворцы получили статус государственных крестьян.
А вот у Сергея Сокольникова, мужа Александры, родители – потомственные малоимущие крестьяне, хотя крепостными никогда не были, что и сказалось на их отношении к жизни. Был в них неукротимый вольный дух и такая же неукротимая тяга ко всему новому, делающему человека более счастливым и устроенным в жизни. Будучи на разных ступенях социальной лестницы, Ураловы и Сокольниковы близко не сходились. При встрече на улице могли только раскланяться. И каким же было разочарование родителей Александры, всю жизнь лелеявших свою дочь и мечтавших выдать ее замуж за какого-нибудь богатого и образованного человека, когда она по уши влюбилась в сына местного старосты Василия Андреевича Сокольникова Сережку. Пытались образумить ее, да куда там! Если, мол, выйду за кого, то только за моего Сереженьку. В конце концов уступили родители. Первым сдался Петр Алексеевич, посчитавший, что если вплотную заняться этим смекалистым симпатягой Сережкой Сокольниковым, то из него может получиться неплохой семьянин. А что? Человек он грамотный, честный, толковый и, что немаловажно – целеустремленный. И Петр Алексеевич оказался во многом прав. Вот ведь сходил Сережка на Германскую – и возвратился оттуда с полным комплектом Георгиевских крестов да еще при звании унтер-офицер, отчего сразу заслужил почет и уважение у своих сельчан. И девки за ним стали увиваться, только он не обращал на них внимания. А зачем? У него жена, дети. После женитьбы на Сашеньке Ураловой Сергей на те деньги, что собрал, батрача на кулаков, поставил в самом центре Кураповки избу с тремя окнами, выходящими на главную улицу села. Детишек долго ждать не пришлось. Уже через год у них появился Ивашка, а потом пошло-поехало. После первого мужика одна за другой родились две девки, Мария и Валентина, а потом снова был мужик. Об этом Александра сообщила Сережке письмом на фронт, где тот мерз в окопах. Сыночка в честь матери назвали Санькой. Ну а последышем стал Ленька, которого Петр Алексеевич с супругой Анастасией Николаевной тут же взяли к себе на воспитание.
Отец Александры не скрывал своего разочарования в том, что семья его дочери живет в забытой богом деревеньке. Не раз он говорил им, чтобы они перебирались в Самару, где больше возможностей выбиться в люди. Все-таки губернская столица, при этом самый крупный купеческий город на Средней Волге, с развитой промышленностью и банковской системой. Ну, в крайнем случае готов был благословить их и на село Богатое, до которого рукой подать. Село это большое, красивое – не чета Кураповке: полсотни улиц, не считая девяти переулков и одного проезда. Там и станция железнодорожная имелась, там же, в большом двухэтажном здании волостного правления, находилась и местная администрация. По вечерам на обустроенной набережной реки Самары гуляли парами, а то и целыми семьями. Жители Богатого гордились тем, что село их старинное. Основано оно было еще в середине XVIII века на Большой Московской дороге, протянувшейся вдоль Самарской укреплённой линии. В свое время эта линия сдерживала вооруженные полчища кочевников, стремившихся вторгнуться на исконно русские земли. Вот на середине Московской дороги, между Красносамарской и Борской крепостями, и располагался известный на всю округу трактир под названием «Богатый Умёт» (умётом называли укрытие от непогоды). Вдоль реки Самары тянулся большой сосновый лес, где водилось много дичи. Первыми поселенцами новообразованной слободы Богатый Умёт были беглые крестьяне и добровольные переселенцы из Нижегородского, Арзамасского и других уездов. В период с 1767 по 1772 гг. казенные земли между Красносамарской и Борской крепостями в урочищах Богатого Умёта купил дворянин Павел Степанович Обухов вместе с родственниками, основав там селение Павловку, сохранившую и прежнее название места – Богатый Умёт, или просто Богатое.
Как и большинстве сел губернии, население Богатого занималось сельским хозяйством. Правда, к концу XIV столетия здесь стали появляться и промышленные предприятия. Так, в 1890-х годах неподалёку от села действовали паровой сахарный завод Богатовского товарищества, конский завод, а также мельницы Аржанова и Шихобалова. В состав селения и прихода Богатовской церкви входили также посёлки, возникшие при этих предприятиях – Степановка, Умётовский (при мельнице Шихобалова и сахарном заводе), а также деревня Кураповка.
3
Александра вышла в сени, чтобы отпереть дверь в избу и впустить нежданного гостя… Мгновение – и вот уже она млеет от счастья в крепких руках мужа.
– Да будя тебе, медведь! – легонько ойкнув, простонала Александра. – Отпусти! Да и неча в сенях-то толкаться. Пойдем в дом, не то суп остынет.
– Суп? – переспрашивает Сергей. – Это хорошо… Поди, с мясцом еще.
– Куриный, Сереженька, с домашней лапшицей – такой, какой ты любишь. Ты там, на своей войне, поди, соскучился по домашним харчам-то?
– Соскучился, милая, ох как соскучился – и по харчам, и по тебе, и по деткам… Как там они, все ли живы-здоровы?
– Да живехоньки, что с ними станется? Чай, на глазах у меня растут. Так что не беспокойся! Уж как они измаялись, ожидаючи тебя, – пожаловалась жена. – Ну давай, войдем в дом – там все и увидишь сам. Скажи, – вдруг спохватилась Александра, – тебя никто из соседей не видел, когда ты шел домой? А то у нас тут неспокойно. Белочехи повсюду хозяйничают, ну и наше кулачье не отстает, лютует – не приведи господи!
– Да я вроде слежки за собой не заметил, – говорит Сергей. – Разве что Елисеевы меня видели из окна, – вспомнил он вдруг. – Но они-то, я думаю, не должны донести. Чай, всю жизнь бок о бок живем, да и детки наши с их ребятней вместе хороводятся – давно уже будто бы родные стали.
– Ладно, пошли в дом! – снова тащит мужа за рукав Александра.
– Ну, здравствуйте, детки мои дорогие! – перешагнув порог дома и оказавшись в передней, громко произнес Сергей. – Как вы тут без меня? Все ли у вас хорошо?
Первым, выскочив из-за стола, бросился ему навстречу старший, Иван.
– Да все хорошо, батька, все хорошо! – ответил он. – А ты как там воюешь? Скоро ли беляков добьете, а то тут кулаки жизни людям не дают, пора бы и их прижать к ногтю.
– Скоро, сынок, скоро с белыми покончим, – говорит отец. – А там и с кулаками разберемся.
– Знаешь, бать, как они зверствуют тут! Жуть сколько народу погубили! Вот и вчера вытащили из дома, как последнюю собаку, Евстратия Бочарова – и к стенке поставили.
– Неужто расстреляли Евстрашку? – удивился отец. – Первый добряк и балагур ведь был на селе. Как мы теперь без него?..
– Да, бать, расстреляли! А до этого Степана Евсеева перед управой на березе повесили. И только за то, что в Красной Армии служили…
– Ну и мы их жалеть не будем! – пообещал отец.
Следом за Иваном подошли и другие дети, и всех он обнял и обласкал.
– А Ленька-то где у нас, аль дома нет? – пошарив глазами вокруг и не увидев самого младшего отпрыска, спросил Сергей.
– До вчерашнего дня у моих родителей жил, но сегодня утром я привела его домой – будто бы чуяла, что ты придешь, – ответила Александра.
– И где же он? А то я ему тут гостинец принес, вот – кулечек с вишней, на станции в Богатом Умёте купил. Бабка одна продавала, уверяла, что поспела ягодка-то, да уж и пора ей спеть, чай, август на носу… Ну так где наш пацан?
– Да где ж ему быть – в своей зыбке, конечно. Носился-носился по дому и притомился вконец. Там, – указала она взгдядом на смежную комнату, где была их с Сергеем спальня.
Сергей отодвинул занавеску и вошел. Завидев зыбку, наклонился над ней и провел своей шершавой ладонью по Ленькиным волосам.
– Ну, здравствуй, сыночек мой дорогой. Да ты спи, спи, не обращай на меня внимания, – заметив, что тот открыл глаза, произнес он. – Я ведь только взглянуть на тебя зашел.
Но разве Ленька будет валяться в постели, когда рядом с ним родной батька, по которому он давно уже скучает.
– Батенька, родненький, – бросился он к отцу на шею. – Ты когда приехал? А саблю привез с собой? Нет? А я так хотел подержать ее в руках.
– Еще подержишь, сынок, – прослезившись от такой теплой встречи с сыном, сказал Сергей. В этот момент где-то за стеной раздался знакомый бас: «Александра! Да где ж Серега-то? Куда ты его спрятала?»
– Да никуда я его не прятала – в спаленке он нашей, с сыночком, с Ленечкой разговаривает.
– Бежать ему надо! Бежать! – неожиданно услышал Сергей. – При этом срочно! Ваши соседи Елисеевы, чтоб им шкворень в одно место вставили, донесли, дьяволы, на него. Я как раз в сельской управе бумаги кой-какие выправлял, когда они пожаловали. Только зашли и сразу с порога: «Сергей Сокольников, падла, домой прибыл!» Тут же кулачье наше затопало ногами. «Ловить надо – и к стенке», – орут. А потом выскакивают из конторы – и на коней. Я вижу такое дело – тут же к вам побежал. В общем, хватит лясы точить – надо торопиться, не то беда случится. Серега! Хватит сюсюкаться, не до этого сейчас – каждая минута дорога. Давай, вылезай из закутка!..
– Батька, ты что, уже уходишь? – заметив, как заметался по комнате отец, спросил Алешка.
– Приходится, сынок, – говорит отец. – Ты же слышал, что дядька Андрей сказал…
Конечно же, Ленька все слышал и до смерти перепугался за отца. Сразу вспомнил, как намедни дядька Илья Федосов, один из самых злющих здешних кулаков, приставал к нему с расспросами: давно ли, мол, отец появлялся дома и где он сейчас находится. Страшный этот дядька Илья. Смотрит на тебя своими волчьими глазами и будто бы пронизывает насквозь. Конечно же, Ленька и не думал ему что-то рассказывать, да и рассказывать было нечего – отца-то они всей семьей почитай уже полгода не видели.
Отец обнял напоследок Леньку, сунул ему в руки кулек с ягодками, которые тот потом всю жизнь вспоминал, потому как это был последний отцовский подарок. Вспоминал он потом и то, как они, бывало, отужинав, зимой всей семьей садились подле дышащий жаром печки; отец брал в руки балалайку и, легонько брынькая на ней, начинал запевать своим хорошо поставленным голосом:
Трансвааль, Трансвааль, страна моя,
Горишь ты вся в огне!
Тоскую я по родине,
По дальней стороне.
После этого вступали хором уже все члены семьи:
Сынов всех девять у меня,
Троих уж нет в живых,
А за свободу борются
Шесть юных остальных.
А старший сын – старик седой
Убит был на войне:
Он без молитвы, без креста
Зарыт в чужой земле.
А младший сын – тринадцать лет —
Просился на войну,
Но я сказал, что нет, нет, нет —
Малютку не возьму.
«Отец, отец, возьми меня
С собою на войну —
Я жертвую за родину
Младую жизнь свою».
Я выслушал его слова,
Обнял, поцеловал
И в тот же день, и в тот же час
На поле брани взял.
Однажды при сражении
Отбит был наш обоз,
Малютка на позицию
Ползком патрон принес.
– Бать, а что такое Трансвааль? – однажды спросил Ленька отца. Ему нравилась песня, и он очень жалел молодых пацанов, которые в борьбе за свободу своей родины готовы были отдать жизни.
– Страна какая-то далекая, – отвечает тот. – Но ты лучше к деду своему Петру обратись – он у нас самый знающий, ты ж видел, сколько у него книг – больше, чем звезд на небе.
Ленька тогда не знал, что песня про Трансвааль – страну, где шла Англо-бурская война, была написана на слова какой-то русской барышни-поэтессы. А мелодия появилась под влиянием народной песни «Среди долины ровныя». Песня пользовалась в России популярностью и после Англо-бурской войны, ставшей важным событием начала двадцатого века, особенно во время Первой мировой и Гражданской войн.
4
…Наскоро простившись с женой и детьми, Сергей бросился на железнодорожную станцию, что находилась в селе Богатом, благо всего-то и нужно было на гору подняться.
– Когда теперь ждать-то тебя? – поцеловав мужа в небритую щеку, спросила его Александра.
– Уж и не знаю, – ответил Сергей. – Теперь, видно, только когда беляков добьем. Вы тут не скучайте без меня, да и особо не бойтесь за мою жизнь. Ничего со мной не случится. У нас там такая сила! Видя это, беляки без оглядки от нас бегут. Так и будут бежать, пока мы сами не остановимся. Да разве с нашим начдивом остановишься? Когда он знает только одно слово: «Вперед!» Вот мы и жмем. Чапай впереди, а мы за ним. Но ему легче – с ним баба его всегда. Ночь на сеновале с ней проваляется, а утром бодр, как тот сельский петух, и готов дальше воевать. Другие бы тоже так жить хотели – не дозволяет. Неча, говорит, генеральские замашки перенимать. Но самого не трожь. Посадит свое семейство на телегу – и везет через всю заволжскую степь да по уральским ухабинам. А мы только облизываемся, глядя на то, как он бабу свою где-нибудь на привале тискает, не обращая на нас никакого внимания…
…Добравшись до станции, Сергей спросил у дежурного, когда пойдет поезд на Самару. А ему: «Да ты что, свихнулся, дядя? В Самаре белочехи. Нельзя туда»…
Вскоре подошел поезд, который направлялся в противоположную от Самары сторону – на Кинель. На него-то и сел красноармеец. Конечно, в Самару было бы лучше, город это большой – можно легко затеряться в толпе, но выбора не было. Куда б ни бежать – лишь бы в руки врагов не попасться. А тут к станции подлетают лихие ребята на откормленных жеребцах. Был здесь такой-то? – спрашивают. Был, а сейчас едет в строну Марычевки. Позвонили на станцию. Дескать, задержите поезд, ибо там находится бандит. Поезд задержали. Жеребцам не составило труда пробежать семь верст – и вот уже Сергей в руках разъяренных кулаков. Попытался было сопротивляться, но его тут же жестоко избили.
Окровавленного, теряющего сознание привезли его в Кураповку. Собрали народ на площади подле управы и стали прилюдно избивать. Били все кому ни лень. Били ногами, били палками, железными прутьями. При этом кулаки руки свои не марали – этим занимались подкулачники, так сказать, кулацкие «шестерки». Единственный, кто заступился тогда за Сергея, – его свояк Кирилл.
Был такой у них Митя-орденоносец – орден Красного Знамени имел. Так тот тоже бил. То ли в самом деле переметнулся к богатеям, то ли боялся их и пытался таким образом замолить перед ними свои грехи.
Жестоко тогда избили Сергея, думали, помрет, а он назло своим врагам продолжал дышать. Тогда его затащили на церковную колокольню и сбросили оттуда вниз. Но и после этого у него не остановилось сердце. И тогда его просто пристрелили…
Все это видели дети Сергея, которые выли в голос и просили мужиков не убивать отца. Громче всех кричал Ленька:
– Тятенька, тебе больно? Ты только не умирай, скоро красные придут, они тебя спасут. Тятенька-а-а!..
Все, кто слышал этот пронзительный крик, невольно вздрагивали, и у них сжималось сердце…
Чтобы не травмировать детские души, Александра попыталась увести детей домой.
Кто-то из них послушался ее, но только не Ленька – он остался, чтобы хотя бы мысленно поддержать истекающего кровью отца.
– Тятенька! Ты держись! – продолжал выть он. – Хотя б еще немного! Красные уже близко, я слышу, как гудит под копытами их коней земля. Держи-ись, родненький! Я люблю тебя.
– Я тебя тоже, сыночек люблю! Ты иди домой! Живи расти, становись человеком!.. Ступай, ступай!..
5
…Когда закончилась война и в селе установилась советская власть, двоюродный брат Сергея Андрей решил отомстить за него. Был он крутого нрава – вот и попрятались убийцы по своим норам. Вернулся с войны и лучший друг Сергея Степан – с ним они в юности по девкам бегали.
«Говори, Александра, кто Сергея убивал?» – спрашивает жену покойного Андрей. А она молчит. Вы, мол, со Степаном уедете в свою Красную Армию, а кулаки мне отомстят.
Но Андрей все же решил поквитаться за брательника. Мстил за своего дядьку и Андреев сын Александр, будущий известный испытатель самолетов. Мстил убийцам и старший брат Леньки Иван, что потом уйдет в сорок первом на войну – да так и не вернется домой. Когда шло раскулачивание, они, получив при советской власти должности, самолично арестовывали кулаков и всех, кто был заподозрен в связях с белогвардейцами, отправляли их в ссылку. Жестокость за жестокость… Смерть за смерть… Страшно. Но, говорят, ни одна революция без этого не обходится.
…А в двадцать первом в Поволжье случился страшный голод. Первой предпосылкой к катастрофе в Поволжье стал неурожайный двадцатый год, когда зерна здесь собрали всего около двадцати миллионов пудов. Для сравнения, его количество в 1913 году достигало почти ста пятидесяти миллиона пудов. Небывалую засуху принесла весна 1921 года. Уже в мае в Самарской губернии погибли озимые хлеба, начали засыхать яровые. Появление саранчи, которая поедала остатки урожая, а также отсутствие дождей послужили причиной гибели почти ста процентов посевов к началу июля. Но тогда страдало не только Поволжье. 1921 год стал очень непростым для большинства жителей многих районов страны. В иных губерниях голодало до 85 процентов населения. Одной из причин было то, что в предыдущем году в результате известной «продразверстки» были изъяты у крестьян почти все запасы продовольствия. У кулаков изымали на «безвозмездной» основе. Другим жителям платили за это деньги по тарифам, установленным государством. Заправляли этим процессом так называемые «продотряды». Перспектива изъятия продовольствия или его принудительной продажи совсем не нравилась многим крестьянам. И они начали принимать превентивные «меры». «Утилизации» подлежали все запасы и излишки хлеба – его сбывали спекулянтам, подмешивали животным в корм, ели сами, варили самогон на его основе или просто прятали. «Продразверстка» первоначально распространилась на зернофураж и на хлеб. В 1919–20 годах к ним были добавлены мясо и картофель, а к концу 1920 года – практически все сельхозпродукты. Крестьяне после продразверстки 1920 года уже осенью были вынуждены питаться семенным зерном. Очень широка была география охваченных голодом регионов. Это Поволжье (от Удмуртии до Каспийского моря), юг современной Украины, часть Казахстана, Южный Урал. У правительства СССР не было резервов продовольствия для того, чтобы остановить голод в Поволжье 1921 года. Люди умирали…
…Настоятель местного храма священник Жданов, родной дядя известного партийного деятеля Андрея Жданова, основал в Кураповке приют для сирот, чьи родители умерли от голода. Но доброму батюшке оказалось не под силу всех накормить. И тогда детишек стали отправлять в более сытные места. С одной из таких групп отправили и Леньку Сокольникова. Чтобы не умереть с голоду, его старшие братья и сестры тоже решили ехать, вызвавшись сопровождать детей до места. Так они и оказались в Житомире. Леньку взяли в детдом. Там же нашлась работа для Ивана и Марии. Александр устроился сапожником, а Валентина – служанкой к зажиточным евреям. Леонид помнит, как недовольно бурчали хозяева, когда он приходил к сестре в гости. Дескать, нечего ему здесь делать – пусть сидит в своем казенном доме.
Следом решила ехать в Житомир и мать, но по дороге она заболела тифом и умерла. Так на каком-то маленьком полустанке ее и схоронили…
А того попа Жданова, что приютил в свое время сирот, Леонид потом всю жизнь вспоминал добрым словом. Грузный, чернобородый, с большими карими глазами, он был светлым человеком, готовым прийти на помощь любому, кто в ней нуждался. Когда в тридцатые начались репрессии, он, чтобы спасти очередного неповинного ни в чем человека, вынужден был обращаться к своему именитому родственнику. Однажды он спас и Саньку Сокольникова, Алексеева брата, когда того обвинили в саботаже. За год до этого его выбрали председателем колхоза, а тут кто-то «наклепал» на него, что он-де, пользуясь своим служебным положением, утаивает от государства большую часть выращенного на полях зерна, – вот его и посадили под арест. Батюшка стал звонить племяннику – не дозвонился, тогда он сел на поезд и поехал в Москву. Вернулся с нужной бумагой, где Александр признавался невиновным, – отпустили. Однако в кресло свое председательское тот сесть отказался – больно обиделся на советскую власть. Дескать, мы, Сокольниковы, живота за нее не жалели, а она вишь как с нами обошлась…
Когда батюшка узнал, что племянник его является одним из организаторов массовых репрессий, то перестал с ним общаться. А когда тот умер, он отказался ехать на его похороны, заявив, что больше с коммунистами никаких дел не имеет, так как за эти годы с лихвой насмотрелся на их зверства. Думали все, батюшке конец, – ведь такое заявить! – однако пронесло. Сказали только, чтоб он язычок свой попридержал, иначе-де не посмотрим, что ты родственник известного большевика.
…Отрывочные картины прошлого… Вот поп Жданов, смахивая со щеки предательскую слезу, гладит его по голове, называя ангелом, попавшим в ад… Вот старший брат Иван, наколов дров, затопил печь в детском доме, а Ленька стоит и с интересом наблюдает за ним… Вот Мария, нарядившись в китайского мальчика, выступает перед маленькими детдомовцами. «Тин-тин-чан, я китайский мальчуган…». Как же она хорошо пела и танцевала! Оттого все думали, что она обязательно станет настоящей артисткой.
…А вот слепая бабушка Анна ходит с кусочком сахара, завязанным в носовой платок, от одного дома к другому… Всю деревню обойдет – чаю у людей напьется, а домой вернется все с тем же завязанным в платок сахарком.
А вот дедушка Петр Алексеевич, материн отец… Он один из самых богатых в селе. На его голове не какой-то там замурзанный малахай собачий, а настоящая шапка из поярочки. Леонид помнит, как тот брал его зимой в лес за дровами, как он, широко размахивая кнутом, громко кричал гнедому: «А ну, прытче, милай!.. Еще прытче!.. Еще!..» Помнит, как, развалившись на дровнях, он с восторгом наблюдал за дедом…
А это сестра отца тетя Маша и муж ее Кирилл… Они очень любили Леньку, даже хотели усыновить его, но мать ни в какую…
А вот он уже круглый сирота ходит по миру в поисках какого-нибудь пристанища. А вокруг такие же, как он, босые и голодные пацаны. Не выйди Ленька в люди, еще неизвестно, куда бы его та худая дорожка привела. Ведь многие его дружки детства так в тюрьме и сгинули. А кто остался жив, тот век свой в туберкулезном бараке доживает.