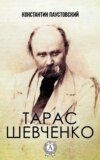Kitobni o'qish: «Предместья мысли. Философическая прогулка»
Художественное оформление серии Елены Окольциной
© Макушинский А., 2020
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020
* * *

Философическая прогулка
à Catherine Brémeau
Ideas are always wrong.
William Bronk
Exercer l ‘activité philosophique…
c’est perdre le Sens.
Rachel Bespaloff
Бердяев жил в Кламаре. Он поселился в этом (юго-западном) пригороде Парижа в 1924 году вместе со своей женой Лидией, сестрой Лидии, Евгенией Рапп, и матерью сестер, Ириной Васильевной Трушевой, почти сразу после их переезда во Францию из Германии, куда они прибыли двумя годами ранее на пресловутом «философском пароходе», лишившем Россию ее лучших умов. Кламар незаметно переходит в Мёдон, другой парижский пригород, тоже славный многими великими обитателями, русскими и нерусскими; Мёдон, в свою очередь, превращается в Севр, более всего знаменитый своим фарфором (и мы о нем говорить здесь не будем). В Мёдоне с 1923 до 1939 года жил Жак Маритен, католический философ, «неотомист», то есть последователь Фомы Аквинского, вообще замечательный человек. Маритен был женат на русской еврейке, Раисе, урожденной Уманцевой (в другом написании – Умансовой, в еще другом – Уманцовой, Oumançoff), у которой тоже была младшая сестра – Вера, – тоже, как и Евгения Рапп, прожившая почти всю свою жизнь вместе с сестрой и зятем. На этом сходства семейств не заканчиваются; поговорю о них позже. И у Бердяевых в Кламаре, и у Маритенов в Мёдоне дом был открытый; и там и там происходили собрания, философские, католические, всяческие. «Я познакомился с Ж. Маритеном в самом начале своего пребывания в Париже, в 25 году», – пишет Бердяев в «Самопознании» (своей, иногда мне кажется, лучшей книге). «У меня было предубеждение против томизма, против католической ортодоксии, против гонения на модернистов. Но Маритен меня очаровал. Уже самая внешность Маритена мне очень понравилась. В нем было что-то очень мягкое, в противоположность его подчас жесткой манере писать, когда речь шла о врагах католичества и томизма. У нас скоро установились с Маритеном самые дружеские отношения. Я его очень полюбил, что при моей сухости случается не часто. Думаю, что меня он тоже любит». Все это замечательно; и любовь, как мы знаем, это самое главное, и в жизни, и в философии, и в литературе, и в фотографии, и вообще во всем, что мы делаем. Мое собственное отношение к Бердяеву я бы именно этим словом и определил. Я люблю его; полюбил его, когда мне было лет восемнадцать; люблю с тех пор до сих пор. Но, разумеется, и в голову не приходит любимому философу моей молодости сообщить читателю – как: как, собственно, добирался он (один или с Лидией, или с Евгенией, или с ними обеими, или с кем-нибудь из друзей, с отцом Сергием Булгаковым, с Георгием Федотовым, а то, может быть, и в сопровождении Льва Шестова, что было бы для нас еще радостней, еще интересней) из Кламара в Мёдон; он пишет об идеях, а не о жизни. А он ходил к Маритенам пешком; быть может, не всегда и не всякий раз; но все же, как рассказала мне моя живущая на самой границе Мёдона и Севра знакомая, Катрин Бремо, всю жизнь занимающаяся Россией, русским языком, русскими эмигрантами, обитателями этих парижских пригородов – а русские эмигранты в двадцатые, в тридцатые годы, то есть в лучшую эпоху эмиграции, эпоху ее трагического расцвета, любили селиться в пригородах (дешевле; и можно в лес пойти погулять…) – все-таки, и похоже – как правило, Бердяев к Маритенам ходил пешком; едва я услышал об этом, как что-то во мне щелкнуло, вспыхнуло; искра пробежала; рычажки и кнопки переключились, и я понял, что мне нужно делать; мне нужно, понял я, пройти этот путь, от дома Бердяева в Кламаре (83, rue du Moulin de Pierre; во Франции номер дома пишут перед названием улицы) до того дома, где в Мёдоне жил Маритен (теперешний адрес: 10, rue du Général Gouraud; до войны улица называлась иначе).
В Кламар идет поезд с вокзала Монпарнас, вернее, останавливается в Кламаре поезд, с вокзала Монпарнас идущий в Версаль, в Рамбуйе. Я жил в тот приезд в Париж у друзей на противоположном конце города, на Porte de Bagnolet; я собирался доехать на метро по третьей линии до станции Réaumur – Sébastopol, там пересесть на четвертую, через самый центр (Châtelet, Cité, Saint-Michel) доходящую до Montparnasse-Bienvenüe. В вагоне обнаружился средних лет дяденька, в черных очках, черном свитере и красных штанах, пытавшийся подзаработать пением какой-то мне, в отличие, может быть, от других пассажиров, неизвестной французской песенки, исполняемой им под аккомпанемент синего аппаратика, висевшего у него на шее, испускавшего хрипловатые гитарно-аккордеонные звуки; у дяденьки тоже не было, увы, ни слуха, ни голоса. На Père Lachaise он отправился петь в соседний вагон; тут же, наискосок от меня, обнаружился персонаж не менее примечательный, пожилой и очень толстый, с седыми, ангельскими, взлохмаченными кудряшками и выражением лица тоже отчасти ангельским – обиженно-ангельским, я подумал, – в белой рубашке и с розовым рюкзаком – для запасных крыльев – с надписью Puma. Персонаж порывался со мною заговорить, я тоже не прочь был побеседовать с ним; на станцию, где я должен был пересаживаться, влетели мы слишком быстро. Парижские поезда не въезжают, но именно влетают на станции со своим особенным шипящим звуком, не похожим ни на какой другой звук ни в каком другом метро из мне, по крайней мере, известных; едва собрался я углубиться в очередной бесконечный коридор, из каковых парижское метро, в общем, и состоит, как увидел на стене надпись, сообщавшую мне и всем прочим просвещенным путешественникам, любителям русской религиозной философии или, наоборот, адептам неотомизма, что платформа четвертой линии на станции Montparnasse-Bienvenüe закрыта на ремонт, поэтому лучше будет для просвещенных путешественников, если они возвратятся на третью, доедут по ней до вокзала Saint-Lazare и там уже пересядут на зеленую, двенадцатую ветку, тоже идущую на Монпарнас. Я был вознагражден еще одним чарующим персонажем, сидевшим, как и я сам, на откидном сиденье в конце вагона и очень прилежно, очень похоже, красным химическим карандашом, мелкими, быстренькими штришками рисовавшим других пассажиров; у персонажа была заострявшаяся, как его карандаш, полуседая ришельевско-мазариниевская бородка, прямиком из семнадцатого века перенесенная в семнадцатый год двадцать первого (в 29 марта 2017 года, день моего кламарско-мёдонского, только-только начавшегося паломничества); еще были узенькие очочки в ярко-зеленой, прикольной, пижонской, чуть-чуть фосфоресцирующей оправе. Непонятно было, как эта бородка с этими очками уживались, и так мирно, на одном, и даже не очень с виду сумасшедшем лице; непонятно было также, как ухитрялся он рисовать в поезде, шатком и броском, как все парижские подземные поезда; как не тряслись у него руки. Руки у него не тряслись, и на меня, пытавшегося, в свою очередь, сохранить в записной карманной книжке, пусть первыми, приблизительными и как раз трясущимися словами, его бородку, его очки и потому смотревшего на него почти так же, как он сам смотрел на свои сменявшиеся модели, поднимая голову от блокнота и вновь ее опуская, – на меня, мне показалось, он никакого внимания не обратил; если обратил, то виду не подал; сошел вместе со мною; исчез навсегда за очередным загибом очередного бесконечного коридора, заполненного, как все эти коридоры, гулким стуком шагов, убывающими, убегающими голосами подземных странников, призрачных путников.
Поезд в Кламар идет всего семь минут; я дольше ждал его отправления, чем ехал, дождавшись; глядя на пустую платформу, стараясь не слушать громкий, грубый арабский голос, не убывавший, увы, ни на секунду и не убегавший, увы, никуда, но все говоривший и говоривший, в растущем раздражении, по мобильному телефону у меня за спиною, вспоминал я – и нет, не мог вспомнить, как звали того персонажа моей молодости, моих восемнадцати лет, который дал мне почитать (не «на одну ночь», но тоже, наверно, ненадолго) «Истоки и смысл русского коммунизма» в классически блеклой самиздатовской перепечатке. Его звали – Миша? Его звали, кажется, Миша, но почему-то все называли его по фамилии – Миша и еще как-то, и вот не могу теперь вспомнить как; помню только его большие очки; ощущение опасной странности, от него исходившее. Я познакомился с ним в Тарханах, в музее Лермонтова, в неправдоподобной, как мне казалось тогда, глуши, где летом 1978 года проработал месяц экскурсоводом, – моя первая попытка самостоятельной жизни, первое бегство из дому, из замкнутого, безопасного, постыдно благополучного внешне и совсем неблагополучного внутренне московского мирка, в котором я вырос. Я жил в избе, в условиях довольно ужасных; дружил, разговаривал и ходил за грибами с людьми замечательными, каких никогда не встречал прежде; там жившими, работавшими в музее; или, как я сам, приехавшими на лето. Вдумчивым экскурсантам из Воронежа и очаровательным экскурсанткам из Липецка рассказывал я всякие небылицы (вот любимый бабушкин столик, а вот на этом диване под литографией с картины Гвидо Рени сиживал сам Мишель; и диван, и столик были всего лишь похожие, какие могли быть – настоящие все погибли, то ли мужики их порубили на дрова в революцию, то ли как-то по-другому они пропали); а зачем там был этот Миша (если так его звали, или это услужливая память мне подсовывает Мишу в честь Лермонтова?) – зачем он там был и что делал, я уже сказать не могу; возможно, какие-то сердечные дела, сентиментальные обстоятельства привели его в бывший Чембарский уезд (тогдашний и нынешний Белинский район; пыльный, грустный, очень затрапезный Чембар, куда однажды я съездил, – родина, как-никак, неистового Виссариона) бывшей Пензенской губернии (тогда и ныне, соответственно, области). Из Пензы мы с ним вместе летели в Москву. В руках у меня была, помню, авоська с двумя банками маринованных – или соленых? никогда не мог понять разницу – белых грибов, собранных мною вместе с дамой, с которой меня самого связывали некие сентиментальные обстоятельства (и которую мне больше не суждено было увидеть); ожидая посадки, стояли мы за столиком в аэродромном буфете, где подавался тот незабвенный, прямо из ведра наливаемый советский кофе с молоком, примерно такое же отношение имевший к молоку и кофе, как диван и столик в музее Лермонтова к настоящему столику, подлинному дивану; здесь был столик высокий, валкий, круглый и грязный; под столешницей обнаружился крючок для сумок; то ли он отвалился, то ли промахнулся я, нацепляя на него лямки моей авоськи; в общем – все рухнуло; пахучей жижей растеклось по изумленному полу. Хорошие грибочки… были, провозгласил Миша (если его звали Мишей… и даже если его не звали Мишей, он все равно сказал так; вот это точно, и навсегда, я запомнил). Очки его поблескивали несочувственно; во всем его облике что-то было от предшествующей эпохи, от шестидесятых годов. А он и был человеком шестидесятых; ко времени нашего с ним, очень краткого, вскоре, Бог знает почему, прекратившегося знакомства, ему уже было, наверное, лет тридцать, если не тридцать пять. А ведь с тех пор прошло еще тридцать девять, почти сорок, целая жизнь, думал я в вагоне все никак не отправлявшегося в Кламар поезда, по-прежнему стараясь не слушать арабский грубый голос у меня за спиною и отчетливо вдыхая свежий скользкий запах тех давних, дивных, разбившихся на пензенском аэродроме грибочков (вместе с банкой разбились и сентиментальные мои обстоятельства; а какой другой была бы эта – целая жизнь, какими другими эти – тридцать девять лет, если бы возвратился я в ту глушь и к той даме, любительнице долгих прогулок). В самолете не было заранее предписанных мест, любой пензяк со всеми своими тюками, пензячка со всеми своими сумками садились куда ему и ей вздумается, и самолет был очень допотопный, очень пропеллерный, не летел, а проваливался, падал, взмывал и дрожал, когда же долетел, наконец, до Москвы, то приземлился аж на Быковском аэродроме, где не бывал я ни до, ни после того, куда не знал даже, что садятся еще самолеты, и откуда мы добирались до города, до Казанского вокзала, на электричке, переполненной кратовскими дачниками, с недоброжелательным удивлением смотревшими на наши очень не-дачные чемоданы и рюкзаки (в моем был спальный мешок, которым, ночуя в избе, пытался я защититься от идиллических ароматов, романтических насекомых); взяв такси на вокзале, ни о чем, кроме как о горячей ванне, химическом благоухании пены, я думать уже не мог. Что бы ни говорили Руссо и Толстой, цивилизация – великое дело, хорошая вещь.
Все перепуталось навек, Россия, Лета и Лорелея, и может быть – да, может быть – нет, был – или не был этот Миша (не-Миша) как-то связан с диссидентскими (так скажем) кругами, или кто-то, наоборот, предупредил меня, чтобы я с ним держался поосторожнее, потому что связан-то он связан, а репутация у него подмоченная, человек ненадежный… все это теперь расплывается перед моим внутренним взором, спустя жизнь и вечность, а вот все же что именно он дал мне, осенью все того же 1978 года, заветный, драгоценный, опасный экземпляр поздней бердяевской книги «Истоки и смысл русского коммунизма», с классической самиздатовской блеклостью перепечатанный на машинке, – это точно, это было наверняка; и вот тут-то, впервые в жизни, я вообще что-то понял про «русский коммунизм», его «смысл», даже его «истоки». Дорого дал бы теперь, чтобы прочитать эту книгу своими тогдашними глазами. О Лермонтове Бердяев упоминает там только единожды, цитируя его – «профетические» – стихи о грядущей революции, черном годе России, когда царей корона упадет, и о мощном человеке с булатным ножом в руке, который посмеется, читатель, над твоим плачем и стоном… Зато немало пишет о неистовом Виссарионе, о его продолжателях, о Чернышевском, о Писареве, о которых в восемнадцать лет я только то и знал, что мне в советской школе о них рассказывали, – и следовательно, знать ничего не хотел, – о русском марксизме, о Михайловском, Лаврове, Ткачеве, о Ленине, еще прищуривавшемся на меня изо всех углов, со всех стен. Здесь впервые, кажется мне теперь, прочитал я, что коммунизм – своего рода псевдорелигия, эрзац-религия, потому и борющаяся так яростно со всеми другими религиями, что видит в них конкуренток; мысль, которая теперь кажется едва ли не трюизмом, так много я читал и думал об этом с тех пор; которая поразила меня тогда. Запретный плод сладок? Запретный плод сладок безмерно; ничего на свете нет слаще. Я был антисоветчиком «стихийным», теперь стал «сознательным» (чтоб уж воспользоваться любимыми словечками только что – не к ночи – помянутого прищура). Все-таки дело было не в воспитании юного антиленинца. За этой первой книгой последовали другие – «О рабстве и свободе человека», «Самопознание», – навсегда оставшиеся моими любимыми; и там речь шла уже о совсем иных, бесконечно более важных вещах.

Был у меня – настоящий, в отличие от этого случайного Миши, – друг, которого в «Городе в долине» я назвал Тихоном; сохраню за ним это имя; тогда жил он, помнится мне, в коммуналке на Никитском бульваре (в ту пору еще – Суворовском); убогая его комната вновь и вновь превращалась в пункт обмена нелегальной литературы, в табачном дыму. С коммунизмом и его прищурами разобрались мы довольно быстро, а вот «экзистенциальная диалектика божественного и человеческого» – с ней разобраться мы не надеялись, но почти ни о чем другом в какие-то месяцы жизни говорить уже не могли. Был табачный дым в комнате, серыми клочьями висевший над нашими головами, затем устремлявшийся в форточку, из которой тянуло ледяным ночным воздухом. Мы и сами выходили в снежную ночь. Вокруг была притихшая, пустынная Москва того времени, теперь уже и не вообразимая более; пустынная, притихшая и огромная, словно дожидавшаяся чего-то (без большой, впрочем, надежды, что это что-то настанет); пролетала, шурша шинами, брызгая разъезженным снегом, одинокая «Волга»; тормозил у светофора еще более одинокий «Москвич» (из той породы, каких ныне уже не увидишь); окончательно одинокие снежинки кружились под фонарем на углу тогдашней улицы Герцена, возле кино с патетическим названием «Кинотеатр повторного фильма», выкрашенного (если память меня не подводит) в бледный, блеклый, голубовато-зеленоватый, в себе самом неуверенный цвет (кино, в которое, случалось, захаживали мы с Тихоном, поскольку и в самом деле показывали там фильмы иногда замечательные, каких больше нигде уже было не посмотреть, хотя и не такие редкие, разумеется, какие показывали в «Иллюзионе» на Котельнической набережной: таких фильмов, какие там показывали, больше вообще нигде не показывали; три – или четыре? – или сколько раз подряд, в этом «Повторном фильме», смотрел я, помнится мне, никогда не забудется, картину Антониони «Профессия: репортер» с великолепным Джеком Николсоном и прекрасной, пленительной Марией Шнейдер в главных ролях; картину, в которой видел тогда – справедливо или нет, уж другой вопрос – один большой призыв к свободе; которую попытался недавно посмотреть снова, – и, честно признаюсь, заскучал). Свобода, конечно. Призыв и прорыв к свободе – вот что было главное в ту далекую пору, не потому лишь, что мы жили в очень несвободной стране. Да речь и шла не о политической свободе, во всяком случае, не только о ней, о ней не в первую очередь. А, собственно, о какой же? Сказать: о «внутренней» или «тайной» – значит ничего не сказать. И вовсе не была она только тайной и внутренней, эта искомая нами свобода. Но это была свобода в каком-то всеобъемлющем, преображающем жизнь смысле, включавшем в себя и внутреннее, и внешнее, и тайное, и открытое, свобода в том изначальном, ни к чему другому не сводимом, ни из чего не выводимом смысле, в каком она и предстает у Бердяева. «Меня называют философом свободы, – пишет он в „Самопознании”. – Какой-то черносотенный иерарх сказал про меня, что я „пленник свободы”. И я действительно превыше всего возлюбил свободу. Я изошел от свободы, она моя родительница. Свобода для меня первичнее бытия. Своеобразие моего философского типа прежде всего в том, что я положил в основание философии не бытие, а свободу. В такой радикальной форме этого, кажется, не делал ни один философ. В свободе скрыта тайна мира. Бог захотел свободы, и отсюда произошла трагедия мира. Свобода в начале и свобода в конце. В сущности, я всю жизнь пишу философию свободы, стараясь ее усовершенствовать и дополнить. У меня есть основное убеждение, что Бог присутствует лишь в свободе и действует лишь через свободу. Лишь свобода должна быть сакрализирована, все же ложные сакрализации, наполняющие историю, должны быть десакрализированы. Я сознаю себя прежде всего эмансипатором, и я сочувствую всякой эмансипации. Я и христианство понял и принял как эмансипацию». (Хотел оборвать или сократить цитату – и не сумел; так в ней все характерно.) При всем несходстве с Бердяевым, при всех разногласиях с ним – ну конечно, я могу это сказать о себе. Я тоже «изошел от свободы», она и моя «родительница» (я только христианство никогда не мог ни понять, ни принять как эмансипацию, но эмансипацию понимаю как эмансипацию в том числе и от христианства). Вот этот «примат свободы над бытием», как его называет Бердяев, он же примат частного над общим, личности над социумом – и вообще над чем угодно, он же, в сущности (о чем мне предстоит еще говорить), примат «динамики» над «статикой», «диалога» над «монологом», этот последовательный персонализм – все это навсегда осталось во мне, как то (незыблемое) основание, на которое уже могли потом (и могут теперь) наслаиваться мои с ним разногласия. Мы об этих позднейших разногласиях тогда с Тихоном, конечно, не думали. И мы не просто так гуляли, наверное, по затаившейся и притихшей Москве – хотя и это случалось, – но все-таки чаще шли мы еще к кому-нибудь и куда-нибудь, только вот я не могу уже вспомнить куда, к каким-то, что ли, девушкам на Самотеку, отдаваясь той ночной и разгульной жизни, которой, я думаю, и нельзя не отдаться в восемнадцать и в девятнадцать лет, какие бы книги ни формировали тебя в то же самое время, которая, впрочем, довольно скоро мне надоела.
Париж не успевает отступить далеко за семь железнодорожных минут: с дебаркадера Кламарского вокзала видна, по левую руку, возлюбленная Эйфелева, по правую – Монпарнасская башня, черная, страшная; видны крыши, дальние, ближние; небо над крышами; верхние этажи послевоенных, для нового массового общества возведенных домов, теперь уже тоже не новых, в свою очередь постаревших. А что видел Н.А.Б., сходя здесь с поезда, после заседания в YMCA, лекции в Религиозно-философской академии или собрания Пореволюционного клуба у И. И. Фондаминского? Вон ту крышу, тот тополь, то облако? Да и смотрел ли на все это? или думал о Якобе Бёме? о статье для ближайшего номера «Пути»? об очередной новой книге? А вид и вправду не замечательный – всего лишь предвестие и только предзнаменование того прекрасного вида (Bellevue…) на весь Париж, который (вид) ждал меня в конце моего пути, ждет – меня и читателя – в конце книги (скажу это сразу), с вершины Мёдонского холма, из парка и с террасы, где был некогда замок, сгоревший сперва в революцию, затем во время Франко-прусской войны, где теперь обсерватория (значит – звезды, к которым всякая книга и должна, наверно, стремиться). А тишина на этой Кламарской станции, в семи минутах езды от Парижа, уже почти сельская. Электричка удаляется; уменьшается; убывает и исчезает; два пассажира, сошедшие вместе с тобою, исчезают тоже, обгоняя друг друга; и ты совершенно так же стоишь на перроне, с тем же ощущением невозможности сразу справиться с внезапным переходом от движения и шума к молчанию, покою и философской рефлексии, как на любой платформе, подмосковной и пригородной, тридцать девять или двадцать девять лет тому назад, в Кратове, в Отдыхе, в Переделкине или (да простят меня музы…) Мичуринце.

Станция перестраивалась; поверх громадного котлована, обнажавшего внутренности мира, трубы и сваи, бетономешалки и камнедробилки (замечательные бетономешалки и восхитительные камнедробилки); проходил навесной, временный, тоже: ярко-, даже: яростно-синий мост, явно стремившийся вступить в цветовой спор с дробилками и мешалками; в конце концов приведший меня на привокзальную площадь, где внутренности мира закрылись.

На площади обнаружились дома, еще совсем не сельские, вполне городские; отчасти даже торжественные; среди них – два кафе: кафе «Приезд» (De l’Arrivée) и кафе «Отъезд» (Au Départ); я – приехал и уезжать не собирался, но зашел все-таки во второе. Туалет закрывался там на очень импровизированный крючок; за стойкою, продавая сигареты и кофе, стояли две, почему-то, японки, похоже – сестры; местные мужики, пившие кто пиво, кто кофе, с явным удовольствием, гордясь своими познаниями, объяснили мне, как пройти на улицу Петровой Мельницы (rue du Moulin de Pierre; интересно, кто был этот Петр? или это вообще никакой не Петр, но – камень, и значит – мельница из камня? Значит, и улица Каменной Мельницы?). Я у них спросил об этом так, на всякий случай; перед выездом из Парижа вдохновенные полчаса посвятил я общению с программою Google Maps, во всех подробностях и тоже с удовольствием рассказавшей мне, как дойти от бердяевского дома до маритеновского – и как до первого из них дойти от вокзала в Кламаре: по проспекту Жана Жореса до улицы Леона Гамбетта, потом направо по Кондорсе – и сразу налево, в искомую Петровомельничную (Каменномельничную); путь несложный, недальний. Прежде чем пуститься в него, тоже выпил я кофе в предотъездном кафе, записывая первые впечатления, перебирая давние мысли.
«У меня незыблемая вера в Бога», – утверждает Бердяев (в записных – тоже – книжках, посмертно, в 1961 году, опубликованных в мюнхенском журнале «Мосты»). Вполне доверять дневникам и записным книжкам, конечно, нельзя. Может быть, и не всегда была эта вера такой – незыблемой, может быть, иногда все же – зыблилась. Но даже с этими оговорками – утверждение примечательное, поразительное. У меня незыблемая вера в Бога… Вот чего у меня никогда не было; не только – незыблемой, но – вообще никакой. Давид Юм писал когда-то: «Не только в поэзии и музыке, но и в философии мы должны следовать своему вкусу и чувству. Когда я убежден в каком-нибудь принципе, это значит только, что известная идея особенно сильно действует на меня». Вряд ли Бердяев был большим поклонником Юма – хотя Юм, как мы знаем из истории философии для дошкольного возраста, оказал решающее влияние на Канта, пробудив его от «догматической дремоты», Кант же, в свою очередь, весьма и весьма повлиял на Бердяева, – но с этим он бы, наверное, согласился. Юм говорит «вкус и чувство»; Бердяев говорил о «духовном опыте». В моем духовном опыте мне раскрывается то-то и то-то. А мне в моем духовном опыте раскрывается что-то иное. Мне – в моем духовном опыте – раскрывается полная невозможность верить в какого бы то ни было бога (с большой буквы, с маленькой буквы). И значит, думал я, заказывая у японок второе эспрессо, я не разделяю самую главную, фундаментальнейшую предпосылку всей их мысли и всех их мыслей – и Бердяева, и Маритена, и Пеги, и Блуа, и Паскаля, и почти всех, кого мне еще предстоит упомянуть на этих страницах. А все-таки я читаю религиозных мыслителей (воспользуемся этой сухой формулой), и только что перечисленных, и совсем других – и мейстера Экхарда, и Николая Кузанского, и, скажем, Симону Вейль, – целую долгую жизнь, не могу от них отвязаться (не так же ли, в сущности, как читал, не мог отстать от приверженцев и учителей веры – разных вер – Эмиль Чоран, самый, может быть, последовательный скептик из всех мне известных? или как читал их Альбер Камю, решительный атеист, мой герой? Камю, который, прежде чем отправиться в Стокгольм за Нобелевской премией, провел сколько-то времени, не знаю сколько, в квартире возле Люксембургского сада, где Симона Вейль жила до войны, не просто провел там сколько-то времени, но – сцена потрясающая! сцена из романа, в сущности (а вся жизнь Камю – это роман, один из лучших в двадцатом веке), – попросил оставить его в одиночестве, в ее комнате, собираясь с мыслями и укрепляясь душой, как если бы только она, Симона, к тому времени уже четырнадцать лет как покинувшая сей бренный и бранный мир, Симона Вейль, с ее слепящей искренностью и беспощадным пламенем мистического фанатизма, – как если бы только она одна, или память о ней, или дух ее, могли помочь ему справиться и с той светской ролью – фрак, король, безумие фотовспышек, дребедень интервью, – которую предстояло ему сыграть, и с тем потрясением, которым наверняка была для него, сына простой алжирской фабричной работницы, не умевшей не только писать и читать, но почти не умевшей и говорить, сама Нобелевка – которая, впрочем, была бы потрясением для любого из нас, независимо от происхождения и прочих привходящих обстоятельств). И мне вовсе не обязательно верить в Бога или вообще во что-то верить (или – не верить), чтобы оценить – что: оценить? – полюбить, навсегда запомнить! – бердяевскую, например, фразу из того же «Самопознания»: «Бог есть правда, мир же есть неправда». Ну, конечно, мир – это неправда, правда – это Бог. Я всегда это знал, всегда чувствовал так же, без всякого Бога. Или вот такое место, оттуда же: «Если Бог-Пантократор присутствует во всяком зле и страдании, в войне и в пытках, в чуме и холере, то в Бога верить нельзя, и восстание против Бога оправдано. Бог действует в порядке свободы, а не в порядке объективированной необходимости. Он действует духовно, а не магически. Бог есть Дух. Промысел Божий можно понимать лишь духовно, а не натуралистически. Бог присутствует не в имени Божьем, не в магическом действии, не в силе этого мира, а во всяческой правде, в истине, красоте, любви, свободе, героическом акте». Или, тут же: «Наиболее неприемлемо для меня чувство Бога как силы, как всемогущества и власти. Бог никакой власти не имеет. Он имеет меньше власти, чем полицейский. Категория власти и могущества социологическая, она относится лишь к религии как социальному явлению, есть продукт социальных внушений. Бог не имеет власти, потому что на Него не может быть перенесено такое низменное начало, как власть. К Богу не применимо ни одно понятие, имеющее социальное происхождение. Государство есть довольно низменное явление мировой действительности, и ничто, похожее на государство, не переносимо на отношения между Богом и человеком и миром. На Бога и божественную жизнь не переносимы отношения властвования. В подлинном духовном опыте нет отношений между господином и рабом». У меня перехватило, наверное, дыхание, когда я впервые прочитал это, в пору Тихона, прокуренной коммуналки, пустых бульваров, притихшей Москвы. Я так и относился, до сих пор отношусь к государству: как к чему-то навязчиво-низменному, мерзко-вязкому («власть отвратительна, как руки брадобрея», уж простите мне избитую цитату); всегда восставал против господства и рабства; всегда хотел быть только «свободным» (по бердяевской же классификации: «господин, раб и свободный»). У меня и теперь, случается, перехватывает дыхание, когда я перечитываю – «повторным фильмом» – эти слова. Я соглашался и соглашаюсь с ними, не делаясь верующим, не считая себя христианином. Это совпадает – еще как совпадает! как ничто другое совпадает! – с моим собственным «духовным опытом», с моим «вкусом и чувством», совершенно независимо от моей же веры или моего же неверия. Кажется, что этого не может быть, думал я, по-прежнему глядя на японок за стойкой и мужиков перед нею, на грязный пол, усыпанный беленькими вытянутыми фантиками от сахара – мужики, выпивая у стойки свое утреннее, или уже не очень утреннее, очередное за день, эспрессо, надрывали эти длинные сахарные упаковки, высыпали сахар в кофе, с видимым наслаждением крутили в чашечке крошечной, в их грубых пальцах – совсем крошечной, ложечкой, упаковки же, с неменьшим наслаждением, бросали просто-напросто на пол, – этого, кажется, и быть не может, я думал, но все же это именно так. Совершенно независимо от веры или неверия, но бердяевский Бог – единственный, которого я могу принять, которого, не веря, я могу, по крайней мере, помыслить. И дело даже не в том, что есть страницы в «Самопознании» (я только что их цитировал), где ему удалось сказать что-то самое важное о себе (а кому это вообще удается?), но дело в том (думал я), что есть страницы в «Самопознании», где ему удалось сказать что-то самое важное – обо мне. Вот почему я сижу здесь, глядя на этот не подметенный японками пол, эти лотерейные билеты, сигареты, газеты, продаваемые из-за стойки, ближе к выходу, молоденьким тоже японцем, круглолицым и невозмутимым, как все японцы, младшим, наверное, братиком хозяек заведения, теперь куда-то скрывшихся, отправившихся, быть может, на кухню готовить обед (по-французски, разумеется, завтрак, déjeuner), уже оповещавший о своем приближении прогорклым запахом пережаренного постного масла. Мне слишком нравятся надорванные фантики, подробности бытия, чтобы я мог быть философом.