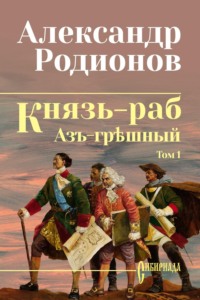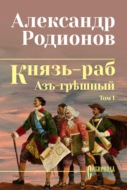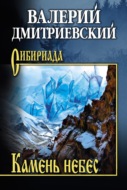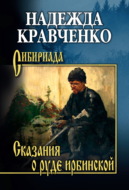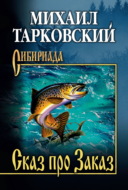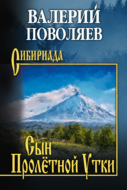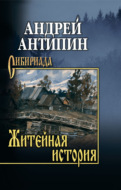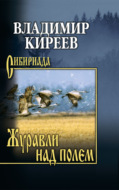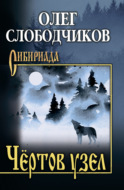Kitobni o'qish: «Князь-раб. Том 1: Азъ грѣшный»
© Родионов А. М., наследники, 2025
© ООО «Издательство „Вече“», 2025
Словарь устаревших и заимствованных слов
Адат – обычай
Айван – колоннада перед дворцом
Алман — дань, ясак
Аманат – заложник
Багинет – штык
Байберек – парчовая ткань
Баранта – набег, грабеж
Барантача – грабитель
Барбет – земляной окоп, вал
Беспречь – не переставая
Бечевник – узкая береговая полоса
Бздиловатый – трусливый
Брезга – рассвет
Вавилон – крутой поворот (дороги, реки)
Важивать – водить, возить
Вервие – веревка
Вертлюги – суставы
Взаболь – всерьез
Взнять – поднять
Взорлить – возвыситься
Войт – сход должностных лиц
Вшивица – затылок, голова
Вывершить – выйти к верху
Газардовать – входить в азарт, рисковать
Гайтан – шнурок на шее
Гер – дворцовый войлочный шатер
Гулган – княжеский совет у джунгар
Джида – кустарник
Дискреция – сдача на волю победителя
Долик – желобок на клинке
Дощаник – речное судно
Ерик – протока
Ертаульный – передовой
Еспе – колодец
Живот – богатство
Забереги – береговая полоса воды, свободная ото льда
Забока – заросли в низкой пойме
Заклюка – поворот
Захребетник – работник по найму, не имеющий ни дома, ни земли
Зелейный – пороховой
Зендель – лентяй
Игреневый – конская масть коричневого оттенка
Избутелый – застойный
Изголов – исток
Калабалык – красная рыба
Камка – китайская ткань низшего сорта
Камча – плетка
Канфа – ткань
Капище – кумирня, языческий храм
Кармазиновый – ярко-алый
Китайка – простая хлопчатобумажная ткань
Консидерация – соединение
Контайша – великий джунгарский князь
Конфирмовать – утверждать, подписывать
Копанец – мелкий колодец
Корволант – соединенный отряд
Коч – небольшое судно
Крушцы – руда земная, металл
Крюйсовать – курсировать
Кузары – гусары
Култук – рыбное угодье
Кунтуш – польский кафтан
Курт – сушеный сыр
Лал – сапфир
Лядунка – кожаный мешочек для пороха
Мазарчалык – кладбище
Мапа – карта
Маршалк – слуга
Матоветь – помутнеть
Мешкотливый – медленный
Мотчанье – промедление
Мошенство – мошенничество
Найман – род тюрок на Алтае, в Прииртышье
Незнать – человек недворянского сословия
Новик – новобранец
Нукер – всадник, воин
Обаче – однако, впрочем
Обгарина – шлак
Одинцы – непарные шкурки
Опричь – кроме
Отпачий – отчаянный
Отпуск – копия
Отуриться – отчалить
Паки – опять
Паузки – маленькие судна для прибрежной разгрузки
Пахтанье – сливки
Пежить – донимать
Пипка – курительная трубка
Плавеж – брод, переправа
Плутонги – форма построения войска
Повалиха – мучная каша с маслом
Подгортанник – кадык
Подсада – самый нижний пуховой слой дешевых собольих шкурок
Подуванить – поделить
Поелику, понеже – ибо, потому что
Позлащенная – позолоченная
Поминок – подарок
Поморговать – побрезговать
Потентат – правитель
Протори – убытки
Проториться – понести убытки, обмануться
Разболокаться – раздеваться
Рамена – плечи
Регимент, региментарий – полк
Региментарь – полковник
Решпект – уважение
Рогатки – укрепление из бруса с множеством отверстий, в которые крест-накрест выставлялись короткие копья
Рында – слуга
Саадак – колчан
Саккос – одежда священника с колокольцами
Сакма – тропа
Сарбаз — воин ханской гвардии
Свейский – шведский
Седмица – неделя
Селле – чалма у персов
Сикурс – помощь, выручка
Сиречь – то есть
Скудельный – глиняный, слабый
Слюзный – шлюзный
Соловый – конская масть серовато-белесого цвета
Солощий – прожорливый, жадный
Спрохвала – легко, походя
Стратилат – предводитель воинства
Стратожема – военная хитрость
Сулейка – бутылка
Сутунок – короткое бревно
Тайша – джунгарский князь
Тельпек – шапка из каракуля
Точию – только
Трактамент – условия, плата
Транжемент – укрепление, земляной вал
Тчан – специальное устройство для литья пушечных стволов
Убродный – глубокий
Урга – кочевая ставка Великого хунтайджи
Утеклец – беглый, беглец
Фашинник – связка хвороста
Фельдшанц – полевое укрепление
Ферраш – расстилальщик ковров
Фряжский – заморский
Хорадж – дань (туркм.)
Хуре – кибитки, расставленные по кругу
Хурул – кочевой монастырь ламаистов
Ценинный – фаянсовый
Цидулки – письма, записки
Чемер – болезнь, недуг
Шаить – тлеть
Шандал – подсвечник
Шанцы – окопы
Шерть – клятва, присяга
Шертовальный – клятвенный
Шкоцкий – шведский
Шнява – мелкое судно
Шпег – шпион
Щербот – небольшое гребное судно
Ясырь – пленник
Часть I
Невысокая кривая дверь распахнулась, и свет выхватил из темноты лица, парики, и над всем этим колыханием голов нависала туфля слуги, освещающего фонарем вход в странное, совершенно круглое сооружение, вознесенное лад землей едва ли не на сажень. Собравшаяся внизу компания невольно выстроилась перед лестницей гуськом: только следуя друг за другом, можно было попасть в это диковинное вместилище, стоявшее неподалеку от летнего дворца Петра. Царь поднялся по лесенке-времянке первым и, согнувшись в три погибели, перешагнул порог, почти напрочь заслонив собой идущий изнутри свет. За ним проворно последовал светлейший князь Меншиков, пропыхтел грузно адмирал Апраксин, неторопко поднялся кабинет-секретарь Макаров, а там и господа сенаторы, помогая друг другу, поднялись к дверному проему, своим очертанием напоминавшему крутобокую присадистую пивную бочку. Казалось, там, внутри, за небольшим круглым столом, вовсе уже нет места, но еще взбирался нетвердо по ступеням вице-губернатор Петербурга Корсаков, и, тычась в его спину, хватался за подрагивающий поручень начальник столичной канцелярии городовых дел.
Матвей Петрович Гагарин, сибирский губернатор, всем дорогу уступал, но нога его уже утвердилась на первой ступеньке, и он, пропуская вперед себя всю свиту, как бы выказывал своим видом – мы издалека, мы с краешку… Свет в дверном проеме закрывался очередной фигурой, и лицо Гагарина, всякий раз кратко освещаясь, оставалось неизменным. «Хорошо, хоть не чертова дюжина на мне замкнется, – подумал губернатор, втискиваясь в круг застолья, – кажись, двенадцатым вошел».
Компания, стеснившаяся велением царя, сидела в глобусе, недавно доставленном из Голштинии. Глобус был так велик снаружи и причудлив внутри, что дюжина на внутренних стенах этого петровского трофея, выхваченного из Готторпа не то как подарок от голштинского администратора Христиана Августа, не то как плата за некие царские услуги заморскому княжеству. Но поскольку вокруг стола все же было тесновато, то каждый мог видеть перед собой только небольшой лоскут нарисованного немецким мастером неба. Царь, войдя первым, не без умысла сел напротив Большой Медведицы и, как только изумление окружения стало пригасать, сказал, снимая нагар со свечи:
– Тесно, друзья мои любезные, да каждому на небе видна своя планида.
– Своя-то своя, государь, да вот что-то я ее поименованья разобрать не могу, – прищурился светлейший, делая вид, что силится понять надпись над созвездием напротив.
– А ты можешь и век жмуриться – все без толку. Не разумеешь немецкого слога, – усмехнулся царь и добавил: – Да и по-нашему читать никак не выучишься. И как это тебе, бестии, удается от грамоты четвертый десяток лет отлынивать?
– Марсовы дела не позволяют, государь.
– Марсовы… Отодвинутся же когда-нибудь и они. Али тебе не легло на память, что я вчера говорил?
Вчера, празднуя спуск на воду нового корабля, Петр произнес в кают-компании, набитой гостями, долгую речь, малоподходящую для корабельного случая. Ждали слова о флоте, а он начал с того, что «доволен случаем напомнить гостям о том, как несколько лет назад даже и не смел мечтать, что вот здесь, на берегу Остзейского моря, мы соберемся в городе, который построили сами. Да нам и не снилось, что в сем граде мы увидим столь многих славных российских мужей, побывавших в чужих странах и возвратившихся домой столь смышлеными; не мечталось, что увидим у себя такое множество иноземных художников и хитромастеров, и не снилось – доживем, что его, царя, и его царедворцев станут весьма уважать чужестранные государи!»
Гагарин слушал царя внешне подобострастно, но между делом успевал искоса метнуть взгляд то на британского посланника Витворта, то на брауншвейгского резидента Вебера, видать, для них государь расстарался краснословьем. И только когда Петр сказал: «Теперь очередь доходит до нас, если вы поддержите меня в моих важных предприятиях, будете слушаться без всяких оговорок. Передвижение наук я приравниваю к обращению крови в человеческом теле, и сдается мне, что со временем науки оставят свое теперешнее местопребывание в Англии, Франции и Германии и задержатся на несколько веков у нас… Помните поговорку…» – Тут царь произнес что-то по-иноземному, и большинство ничего бы не поняло, если бы Петр сам не перевел: «Молитесь и трудитесь», – только после этих слов до Гагарина дошло, что царь не красуется перед иноземцами, а слова его предназначаются в первую голову всем этим вырванным из насиженных московских гнезд боярам, которых Петр вынудил специальным на то указом переселиться в новую столицу.
Вчера среди бесчисленных тостов трудно было пробиться к царю, не оставлявшему вниманием гостей заморских, но Матвей Петрович все же улучил момент, спросил из-за Петрова плеча: «Так когда же, государь мой, Петр Лексеич, разговор со мной будет?»
Царь глянул на губернатора, полуоборотясь, трезвым глазом:
– Разговор прилюдно или?..
– Как пожелает ваше…
– Дело порубежное или иное какое?
– И такое есть, и всякое, ваше величество.
– Завтрашний вечер будь в Летнем доме, – бросил Петр и, будто и не прерывался, продолжил беседу с брауншвейгским посланником.
Матвей Петрович пришел к Летнему дворцу загодя, надеясь, царь будет говорить с ним о сибирских делах, если не наедине, то хотя бы в узком кругу. Дожидаясь назначенной встречи, Гагарин, уже более года не бывавший в Петербурге, пошел осмотреть Летний сад. Ровнехонькие ряды молодых лип уходили по прямой линии от дворца, вершины их еще не сомкнулись, и дорожки просматривались далеко и насквозь, истончаясь в глубине сада до острия шпаги. А пообочь от дорожек, то там, то сям стояли нагие белокаменные тела, будто вышедшие из кустов, чтобы рассмотреть прогуливавшегося человека поближе. Гагарин полюбопытствовал, что за надписи на мраморных круглых пеньках, на коих взгромождены бесстыдные телеса, но ничего прочитать не смог – латынь. Он как-то не заметил среди вечереющих кустов того самого странного сооружения, которое оказалось глобусом и в котором, по затее царя, теперь оказалась вся немалолюдная компания. «И ведь все у него одно на уме – носом в заморское тыкать. Теперь вот нашел способ – приставил всех носом к измалеванному небу», – ворчливо размышлял Гагарин, не показывая виду, что ему эти звезды и планиды хоть и не сияй, что голова под париком давно взмокла, что ему сидеть здесь весьма неудобно: неширокие плечи князя оказались заслонены с одной стороны Меншиковым, а с другой – пышными заемными локонами Долгорукова.
Слуга, стесненно кренясь набок, через плечи сидевших поставил на стол бокалы с мошкательвейном, и царь, сжимая в руке подогретое стекло, не вставая, заговорил:
– Жаль вот Брюса нет, не приспел еще к Петербургу из Саксонии, а то сей бы час все точно знали: кому какая звезда выпала по его картам, астрологией определенным, и кто под какой звездой здесь восседает. Непременно сказано всем будет: каково планеты нынче выстраиваются и какие кому беды и радости от того противорасположения будут в году предбудущем. Вот только Вилим вернется. А сей глобус, – царь вытер тыльной стороной ладони рот, потом вытер салфеткой руки, – станет украшать куншткамору. Не зря Меншиков вместе с Брюсом в Шлезвиг вояжировали и там рассудили одноконечно: брать или не брать у немцев эту чрезвычайно редкую вещь. А тебе, – Петр глянул в сторону Черкасского, – надо расчислить с архитектом, как глобус поднять и вместить на втором жилье куншткаморы. Позаботься, чтоб сия вещь стояла отдельно от монстров. Разве может такая красота расположиться рядом с уродцами, с этими усмешками Божьего промысла?
– Государь! Как же у Господа может быть усмешка? – искательно съязвил Меншиков.
– А ты взгляни в ином деле на себя! В деле воинском – усмешки Божьей над тобой нету. Воин. Да вот оставил я на тебя недостроенный город – и что? Ты и доли моих указов не исполнил. Не заложил Господь в тебя строителя. Тут не усмешка, тут ошибка. Но не Господа, а моя да твоя, понеже ты доселе города токмо разрушал. Дай срок – исправлю я в тебе и сей недочет вместе с прочими… – И Петр отвернулся от светлейшего, сдерживая себя.
Недосказанность повисла над Меншиковым хуже ругани, так что он в продолжение всего вечера уже помалкивал и в разговор не встревал.
– И уж коли я вспомнил о монстрах, то когда ж от тебя, князь, будут обещанные «шитые рожи»1? – обратился царь к Гагарину.
– Заминка, государь мой, вышла. Нерасторопство комендантское. И воевода якутский подвел.
– Каких же воевод ты там по городам насажал? И что за воеводы такие, у коих вчера был город, а ныне нет города?! Ты вот в новую столицу приехал, а одного города не довез!
– Прости, государь, не пойму, аз грешный…
– Бикатунский городок где?
– Калмыки спалили.
– О калмыцких нападках разговор еще будет. Ты допрежь ответь мне о воеводах сибирских. Они у тебя ничему иному не способны, точию бунташным казакам шеи подставлять. Растолкуй мне, за что Атласова в Большерецком остроге казаки жизни лишили? И кто главный убоец? Кто взнял бунт?
Сибирский губернатор знал эту способность царя застольно переходить от разговоров малозначащих к делам непустяшным, и поэтому ожидал, что вслед за «шитыми рожами» будут вопросы и посерьезнее. Да ведь и сам напросился, сам поторопил эти вопросы.
– То не бунт, государь, то грабеж. Убоец Григорий Переломов сговорился с казаками – взяли государеву казну. Прикащик Атласов ясак вывозить собирался в Анадырь, да они его в пути встренули. И порешили Атласова да еще Липина с Чириковым.
– Как же не бунт, коли казаки в камчатских острогах, и в Верхнем и в Нижнем, знамена выносили, круги свои воровские учиняли, атаманов новых выбирали!
– Все же, государь, то не бунт. Переломов на виске пытан, дано ему с десяток ударов, сказал, дескать, из-за живота он позарился, прельстился он, вишь, соболями, лисицами красными ясашными…
– Да разве тот, кто на ясак государев позарился, не вор? Ты своих воров сибирских не отмывай добела. Атласов сколько островов под Камчаткой, за переливами, под ясак привел! Да за такого государева человека шкуру спустить мало!
– Да слова нет…
– И кто у тебя, – Петр входил в страсть, – как Атласов, новые острова находит и мне пользу, а казне прибыль?
– Есть такие людишки, государь мой, есть…
– Почему не знаю их?
– Отписки воеводские не поспели. Вот Алексей Васильевич, – князь Гагарин с надеждой глянул в сторону кабинет-секретаря Макарова, – он не даст соврать. Приискиваются новые земли, и острова новые примечены. А под ясак еще не приведены – неведомо, есть ли на тех островах люди.
– Было, Петр Алексеич, было о том известно. Винюсь, не стал тревожить твою персону, поелику дело еще не прояснилось, – проговорил торопливо Макаров. – Отписывал мне о том князь Матвей Петрович, что казак Пермяков бывал на устье Лены, а оттоле шел морем до Ковымы-реки. И напротив устья Хромой реки, где пошел в море камень Святой Нос, видел-де он, Пермяков, с коча – остров в море или землица. А есть ли на ней люди – не ведает, отнесло…
– Тебе, князь Матвей Петрович, про то ни на день забывать нельзя. Что, казаки в острогах перевелись? Или кочи у них порассыхались? Шли грамоту в Якутск: прознать не мешкая, что там – остров ли, землица ли?
Застолье слушало царя притихше. Всяк был готов – царь в любой миг может перевести разговор с Гагарина, с его сибирских новостей на иную тему, и тогда уж язык во рту не жуй, а покажи, что все по своему разряду-приказу ведаешь. Но когда царь произнес отстранение: «Землица ли?» – никто не мог предсказать, как повернется разговор дальше.
Царь выпрямил спину и, положа ладони на стол, глянул на близкий небесный свод. Задержался на Полярной звезде, как бы утверждаясь в ориентире, снова заговорил:
– Вот что дивным не перестает мне казаться. Астрономы, звездочеты поди-ка все звезды на небе посчитали. Путнику по тем звездам с пути невозможно сбиться. Однако ж звезды известны, а до сей поры нет нам и по звездам пути к тому месту, где великая на земле загадка. Меня домогается уже кой год известный всей Европе великой учености человек Лейбниц. То письма слал, а тут и сам на аудиенцию явился. В Торгау беседовал я с ним. Паки начал говорить: срослась ли Азия с Америкой? И говорил, поелику другим мореходам сие место срастания недоступно разведать, то способней всего ответ нам искать. Говорил, точию ваше величество может разрешить сей вопрос. А вы, друзья мои нелюбопытные, гадаете: остров или землица?.. Князь Матвей! Ты, видно, тож заодно со всеми гадаешь?
– Срослась или не срослась, государь?
– Не то. До сего дня ты не вызнал, зачем к калмыцкому хану Аюке китайские посланцы собираются? Вижу – не вызнал!
Гагарин виновато и беспомощно покачал головой.
– Стало быть, ты поверил россказням, что они направятся к калмыкам сватать Аюкину дочь за китайского хана?
– Как же можно такое, государь! Лжа это все…
– А купчины твои в Китай ходят только-только торговать?
– Вот вернется оттуль купчина Гусятников, может, и точно ответит, зачем послы готовятся. Да не скоро, государь, это будет. Вернется он через два года.
Гавриил Головкин момента не упустил, вставил:
– Петр Лексеич! В Посольском есть листы от хана Аюки. Дескать, посол намерен просить у него дочь. Он, Аюка, вишь, и за приданым в Астрахань людей послал: платья дочке покупать. Упаси меня бог, да не верю я такому дальнему сватовству. Аюка с Китаями и раньше пословался, но тогда посольства Сибирью не ходили. А теперича тот путь по степям и чрез Камень стал больно опасен от каракалпаков. Вот и явилась им нужда ходить по нашей земле. Посланец Аюки еще в зиму подавал листы – просит пропустить его посольство в Китай числом полсотни человек, да чтоб шли от Казани Сибирью.
– Не собрался ли Аюка кого сватать себе в Китаях? – ощерился в усмешке Петр.
– Да намудрил он в листах – зачем посольство. Верно помню, что пишет: «Та посылка посольств меж ими чинится для любви на обе стороны».
– Это как же, на обе стороны? И с Китаями любовь, и с нами? Подданный русского царя, а тоскует по другому владетелю, – усмехнулся желчно Петр.
И хотя все поняли двусмыслие калмыцкого письма и ерническое толкование его, но никто царю не возразил.
Глава Посольского приказа граф Головкин слушал настороженно, ждал: вот-вот о китайском государстве еще вопросы последуют. Но Петр, видно, хотел расспросить более других Гагарина, не полагаясь на его письменные доклады, а больше уповая на живой разговор. Для долгой беседы с губернатором сибирским у царя никак не находилось времени. Он целыми днями пропадал на Скампавейном дворе2, подле устья Мойки, где еще зимой было заложено к постройке шестьдесят галер. Петра не оставляла затея с десантом на шведскую сторону. Но и на сей раз подробный разговор с Гагариным не завершился.
В кривом проеме распахнутой двери, где матовело не нарисованное, а настоящее небо, показалась низенькая фигура вице-канцлера Шафирова. Он протискивался в глобус боком, хотя такой маневр был просто бессмысленным – Шафиров был округло толст. Под хохот царя и всей компании он почти вкатил себя в смрадную от вина и табака сферу глобуса и с одышкой стал говорить, что припозднился вовсе не потому, что ему сюда не хотелось, а дела задержали. Прибыл наконец-то к Москве хивинский посланник, распорядиться надо по части доставки его в Петербург… Но Шафирова никто не слушал.
– Посольский к посольскому двигайся! – зазывал его к себе поближе Толстой, тесня других и освобождая местечко для Шафирова. Но Петр сам решил, где усадить вице-канцлера:
– Пусть сват со сватом потесней сойдутся. Нечасто рядом сидят. И тут же расчистилось место подле Гагарина. Князь вздохнул посвободней, но только до того, как Шафиров оказался рядом. Он вклинился в застольный круг, и теперь уже никто не мог в него втиснуться, не выдавив кого-то из этого живого кольца царедворцев. Опоздавший потянулся к бокалу, но Петр поднял палец, крутнул головой и полуспросил:
– Большого орла?
– Большого! Большого! Он, пока на султановых харчах сидел, наш обычай потерял! Орла ему! – приговорила компания.
Пауза не затянулась – тут же из дворца спроворили огромный кубок, и Шафирову налили штрафную. И, даже когда он запрокинул голову, доливая в рот остатнее вино, никто не видел, есть ли у него под складками жира хотя бы намек на кадык, волнистая от складок кожа колыхнулась и замерла при последнем глотке.
– Виват посольским! – сказал Петр, любуясь проворным вельможей, которого он подобрал некогда в торговом московском переулке и возвысил. – А тебе, видать, сидение в Туретчине, в тюрьме ихней, на пользу не пошло. И там тебе похудеть не посчастливилось!
– Да ведь уже сколько миновало, как я с тюремным харчем распрощался. И все ж не зря отсиживались мы с Толстым в заложниках. Мы, государь, пересидели-таки Карлуса.
Петр мгновенно напрягся:
– Есть известия о короле?
– Особых нет, государь. Кроме одной, коей нескоро состариться. Высидели мы свое. И, как того добивались, только без нашего конвою, Карл убрался из Порты3. В том меня великий визирь уверил, а я всех тут уверяю.
– Ты расскажи, расскажи, не всем сия история известна, – подбодрил царь Шафирова. – Расскажи, как турки из шведского короля калабалык сделали.
Матвей Петрович еще не успел войти во все столичные новости. Он знал, что с Турцией наконец-то заключен мир, но ему еще никто не рассказал, что до замиренья пришлось Петровым дипломатам Толстому и Шафирову отсидеть заложниками пять месяцев в стамбульской тюрьме. И хотя условия мира, подписанные в Андрианополе, были оскорбительно яремными – Россия потеряла Азов, считай, Черное море потеряла! – никто в Петербурге вслед за царем не считал это проигрышем, поскольку война снова становилась только Северной. Уверенность, что теперь противник только один и вдобавок противник этот бит под Полтавой, под Лесной, под Калишем – швед, – бросала такая уверенность свой отблеск и на поощрительно-веселый тон, с которым царь позволил Шафирову: «Расскажи…»
– На четвертый год гостеванья в Порте, – начал, приосанясь, Шафиров, – после того, ваше величество, как не удалось нашим драгунам достичь Карлуса у переправы на Днепре, кончилось для шведского потентата почестное ество и питье. И турки уже не чаяли, и крымское татаровье голову ломало, как стряхнуть с шеи северного владыку. Крымчак Девлет-Гирей удумал свейского короля выслать домой через Польшу, а там, будто бы по недосмотру, сдать его полякам. Но Карлус сей подвох разгадал. В дело вступил сам султан. Приказал отправить свейского высочайшего гостя из Бендер в Салоники на корабле, чтоб его к дому морем доставлять. Приказал султан, коли будет гость оказывать противность, то силой на корабль доставить. Указ султана есть, а казуса, с которым к гостю прилично подступиться, не хватает. И тут паша бендерский нашелся. Посылает к Карлусу своего конюшего. Передать – надобно в путь готовиться. Конюший, да еще бендерского паши, он же к европейскому политесу не привычен. Пришедши к Карлусу, обнажил саблю и объявил ультиматум: «Собирайся!» Для короля такое обхождение ни дать ни взять – афронт. Как же! К лучшему и первому в мире солдату некий конюший с саблей приступил! Карлус – шпагу наголо и кончил конюшего. Янычары взбеленились и приступом на дворец, где король со своей свитой. А там уже изготовились, пока случилось у паши замешательство. И транжементом двор окружили, и мортирки, какие при седлах случились, выставили. Отбили бендерских янычар…
Шафиров, рассказывая, смотрел только на царя, заранее зная, что все глядят на него, на Шафирова, поскольку Петр, похохатывая, любовался рассказчиком. Но Шафирову как бы не хватало некоего живья в подробностях сражения Карла с янычарами.
– Петр Андреевич! – обернулся с трудом он к Толстому, с которым они совсем недавно сидели в стамбульском Семибашенном замке. – Ведь помнишь, нам английский посланник сказывал, что султан пожаловал свейскому королю несколько жеребцов из Арабии. Какие это были скакуны!.. И был среди них белый, для предбудущего вступления короля шведов в Москву. Так что ты думаешь? Тех лошадей чистокровных Карлус велел забить. Пошла вся парадная животина на солонину. Оборону собирался король держать нешуточную, провиантом запасался. И поелику вошел в кураж, то это сражение в Бендерах затянулось. Янычары к нему подступятся, хотят взять живым, но чтоб повреждения ему не доставить. Ни даже волоска оборонить не велено. Видно, плохо у султана с аккуратными янычарами. То один сабелькой махнул и у короля отсек мочку уха, то пальчика владыка шведской на руке недосчитал, а то и вовсе попался неуважительный какой-то янычарище – кончик носа королю отсек. Нос укоротили, а совсем повязать короля способа нету. Исхитрились, загнали его с остатками сотни во дворец.
Выдержав паузу – было даже слышно, как потрескивает свечной фитиль, как воск плавится, Шафиров продолжил:
– Слышал я, закон магометанский не позволяет туркам рыбой баловаться. Рыбаки они, можно думать, неважные. Но в Бендерах во дворце изловчились. Запалили дворец, в суматохе набросили на Карлуса рыбачью сеть и так в сети, подвесив на шест, до самого Андрианополя и везли. Об этом и сказывал нам визирь великий: калабалык из Бендер прибыл к султанскому двору.
Гагарин хотел было спросить, что же сталось с королем в Андрианополе, но Петр перебил и того, и другого:
– Отсель гистория пойдет для нас не больно веселая. В Бендерах турки рыбину изловили изрядную. А вот куда они ее выпустили, в каких она водах ныне обретается и где выныривает, о том меня в известность никто не привел.
Благодушие, витавшее вокруг царя и своим краешком коснувшееся Шафирова, стало рассеиваться.
– Что короля швецкого в Порте нет, в том можно доверять словам визиря. Карл туркам теперь в обузу, он им теперь без надобности. Они свое, да не свое, а наше у нас взяли. Нам не с Портой сейчас воевать, а с Карлом, где б он ни объявился. И всем вам ведомо, господа, что денежная казна наша худа. Ты, князь Матвей Петрович, платил ли штраф за недоимки по своей губернии?
– Тыщу рублев, – понуро ответил Гагарин.
– И Апраксин в свое время за Казанскую, и другие губернаторы тож поплатились штрафами. А полного денежного сбору нет! Недоимка до того казну довела, что снова нам приспело портить серебряные монеты, половинить их и медные деньги поднимать в цене.
Петр пошарил в кармашке и достал серебряный рубль-новодел:
– Вы думаете, голландцы или соседственные им государства сами серебро копают? Они его везут из Нового Света – из мексиканских рудников. Сей куриозный рублевик я ношу уже лет восемь и сколько еще носить буду для показа нашим казначеям, монетчикам и рудокопам – то Бог ведает. Доколе из-под воинской моей амуниции, из-под российской брони будет торчать цивильный воротник иноземного правителя? – С этими словами царь кинул рубль на середину стола. – Всем показываю, чтоб помнили! На рубле, то бишь на талере, оттиснута моя персона. Да наши чеканные мастеры талер заморский так перечеканили, что от прежнего герба эрцгерцога Тирольского на мою грудь пересел его двуглавый орел и все сие окружено австрийскими гербами. Да воротник монашеский из-под латы высовывается… Такого одеяния я отродясь не нашивал. Как же с таким куриозом торговлю строить? Нужно свой «рубль заводить», пуще воздуху нужно! Хватит уж российский герб перетаскивать на чужие талеры да левки… Душно здесь. Засиделись мы, друзья мои, под этими небесами. Хоть и красно сфера небесная расписана, да пора на наше санкт-петербургское небо взглянуть, сойдем на землю.
Царедворцы выбрались наружу, осоловелые не столько от вина, сколько от спертости табачного духа, в котором они провели несколько часов кряду. Царь задержался у глобуса, еще и еще осматривая его пятнистое тело, схваченное бронзовыми обручами, изображающими меридианы и параллели. В предутренних сумерках бронза, покрытая серебристой мелкой росой, была отчетливо видна на фоне охристой суши. Один из меридианов пересекал Сибирь почти вдоль Каменного пояса. Там же крепился шарнир двери, ведущей внутрь глобуса.
– Гляди-ко, князь Гагарин! Мастер будто для тебя дверь в земли сибирские прорезал. В самую Азию дверь! Ты подумай, тут какая-нибудь да зарыта собака! – заржал самодовольно царь. – Подойди, подойди, князь. Покажи как хозяин губернии, где она у тебя кончается? Не покажешь! Потому краю ей еще нету: ни на север, ни к востоку, ни к полудню…
Не смея откланяться и уйти, вельможи толпились рядом, рассматривая то место на глобусе, где Азия должна была срастись с Америкой. Но утро в Санкт-Петербурге еще не налилось полным светом, в сумеречной мгле терялся край Сибири, врезаясь, словно зубом неведомого зверя, Камчатским полуостровом в темень океана. Там, где стоял Петр, прямо напротив его задранной головы, видно было кругловатое пятно Хвалынского моря4, а из загадочно мерцавшей Индии, неведомой и всего лишь означенной надписью, текли на север, пересекая всю Сибирь, разветвленные в верховьях реки.
– Рублевик я при тебе не зря доставал, князь, – сказал на прощание Петр. – Приготовь мне отписку по Нерчинску. Хочу доподлинно знать, сколь от тебя каждогодно серебра ожидать можно, сколь всего добыл. Подашь листы Макарову. Сроку тебе – день!
Гагарин молча поклонился.
* * *
Едва царь ушел, компания тотчас распалась.
Ни будущий сват Гагарина, ни даже его настоящий сват Головкин не полюбопытствовали, где Матвей Петрович будет коротать остатки ночи. А может быть, заметив, что поближе к нему держится светлейший, поспешили оставить их вдвоем. Оказавшись рядом, они выглядели странно – высокий, огрузший Меншиков и приземистый, проворно шагающий рядом Гагарин. Видно, что-то их равняло и объединяло в сегодняшнем положении. Может быть, не очень расположительный тон царя, когда он в самом начале беседы осадил светлейшего, а Гагарина весь вечер попрекал нескладными делами сибирскими. Так или иначе, но, оставшись наедине и коротко перемолвившись, Меншиков с Гагариным спустились к Неве. Александр Данилыч мокрым ботфортом растолкал дремавшего на бревенчатом причале шкипера и спрыгнул в небольшую галеру. Гагарин с ухваткой сухопутного человека сполз следом и, когда уже входил под сень каютки, услышал, как Меншиков рыкнул на шкипера: «На какой – на мой! Домой, да не на мой, а на Васильевский!..» Матвей Петрович тихо пристроился в углу каюты, привалясь к стенке, обитой мягкой камкой, и стал исподтишка наблюдать за Меншиковым. Гагарину невдомек было, почему у некогда бесшабашного и всегда беспечального любимчика Петра нынче такой поникший вид. А угрюмство имело свои причины, и немалые. Поборы мирных жителей в Польше, учиненные Меншиковым, и последовавшее за тем предупреждение Петра: не терять «славы и кредиту»! – все это едва ли оставило на челе Данилыча хотя бы морщинку заботы. Польша была всего лишь походным эпизодом в судьбе этого ненасытного поборщика, о покупке графских и княжеских достоинств которому хлопотали в доброхотные дни русские дипломаты в Вене, а то и сам царь просил австрийского императора удостоить Меншикова, за изрядную мзду, дипломом князя Священной Римской империи. Польский случай Данилыч прикрыл воинской необходимостью. Но вот скверного управления Санкт-Петербургской губернией оправдать было нечем. Среди чиновников Ингерманладской канцелярии5 заскользил, завился неслабеющей поземкой слушок: как бы не сместили наместника ингерманландского, то бишь Данилыча. Пухнут от награбленных денег его подручные в той земле, а казенные доходы губернии в горсти к столице приносят. Буря еще не грянула, но светлейший лакейским чутьем проник – долго ждать не придется. Сегодня царь вроде бы ни с того ни с сего объявил ему днем: отбирает он своей волей подаренный Меншикову Васильевский остров. А светлейший уже третий год кряду, переправляясь через Неву, привык командовать шкиперу: «Греби на мой остров! На Меншиков!» А теперь на Васильев? Да и кто такой Василий? Офицеришко бомбардирской роты, отличился, отбивая шведский десант, и за это острову – его имя? «Эк его повернуло! – про себя с досадой воскликнул Меншиков, вспоминая слова царя о Васильевском. – Выходит, моим остров был на время. Попользовался – верни? Вот тебе и кредит царский!»