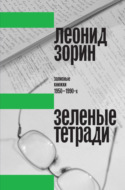Kitobni o'qish: «Викторианки»
© А. Ливергант, 2022
© С. Тихонов, дизайн обложки, 2022
© ООО «Новое литературное обозрение», 2022
Женское лицо
Банальность: у каждой национальной литературы, у каждой литературной эпохи – свое лицо. У викторианской, если перефразировать название книги Светланы Алексиевич, лицо женское.
Английская литература позапрошлого века, как никакая другая, дала миру целую плеяду первоклассных прозаиков и поэтов – представительниц прекрасного пола. Викторианская эпоха имеет отчетливый феминистский оттенок, хотя до суфражисток, борьбы женщин за свои права, дискуссий по гендерным вопросам было еще далеко.
Именами Джейн Остен, Шарлотты, Эмили и Энн Бронте, Джордж Элиот – писательниц, о которых идет речь в этой книге, – список талантливых викторианок не исчерпывается. Читатель не найдет здесь жизнеописания Мэри Шелли, жены поэта, создательницы некогда знаменитого, леденящего кровь и актуального по сей день «Франкенштейна» с глубокомысленным подзаголовком «Современный Прометей». Нет здесь и Элизабет Барретт Браунинг, жены еще одного великого поэта, которая, по мнению многих, сочиняла стихи не хуже именитого мужа и вполне заслуживала почетного титула «поэта-лауреата». Нет и Элизабет Гаскелл, написавшей не только «Мэри Бартон» и «Крэнфорда», – романы, которые высоко ценил и печатал в своих журналах Диккенс, – но и биографию своей коллеги по перу и близкой подруги Шарлотты Бронте; «Жизнь Шарлотты Бронте» и по сей день считается одной из лучших биографий на английском языке. Нет здесь, если мерить историю литературы годом рождения, и Вирджинии Вулф; викторианкой, впрочем, автора «Миссис Дэллоуэй» и «На маяк» уж никак не назовешь – скорее, антивикторианкой.
И то сказать, большие писатели с трудом поддаются периодизации, не встраиваются в литературный процесс. Джейн Остен, с чьей литературной биографии начинается эта книга, умерла за двадцать лет до восшествия на престол королевы Виктории и по формальным признакам викторианкой считаться не может. А между тем многое в романах Остен роднит ее скорее с викторианским веком, чем с веком Просвещения, скорее с Теккереем, чем с Филдингом или Смоллеттом. С молодых ногтей «непревзойденная Джейн» зло и остроумно, хотя и не всегда заметно, высмеивает нравоучительность и навязчивую сентиментальность литературы восемнадцатого столетия, в котором прожила большую часть жизни. «За изящной, легкой светской болтовней героев, – отмечает Честертон, – утонченные читатели Джейн Остен не рассмотрели громоподобного бурлеска». Вот и Мэри-Энн-Эванс, более известная как Джордж Элиот, крупный прозаик, философ, критик и ученый викторианского века, гораздо ближе к французскому натурализму, чем к английскому критическому реализму и тем более – к сенсационной литературе середины XIX века, к которой, как позитивисту и положено, она относилась с нескрываемым предубеждением, если не сказать пренебрежением.
Не только Остен, но и сестер Бронте, и Джордж Элиот викторианками в строгом смысле слова не назовешь. Все пять писательниц семейным ценностям были преданы меньше, чем литературным, да и семьи своей ни у кого из них не было, как и детей. Из известного филистерского триединства, нашедшего свое наиболее полное и выразительное воплощение в трех немецких словах: Küche, Kinder, Kirche, триединства, основополагающего для викторианской женщины – хранительницы домашнего очага, но не властительницы дум, – они отдавали должное разве что Церкви, да и то не без некоторых сомнений. Джордж Элиот, ревностная протестантка в молодости, близко сошлась с кружком вольнодумцев и скептиков, поборников не религиозной, а научной мысли, и пересмотрела свои ортодоксальные взгляды на Церковь и веру. Шарлотта Бронте и Джейн Остен в церковь ходили исправно, но цену пуританским табу, религиозному ханжеству и начетничеству, несмотря на юный возраст и строгое, последовательное пасторское воспитание, хорошо знали. Вспомним хотя бы Уильяма Коллинза из «Гордости и предубеждения» или миссионера, преподобного Сент-Джона Риверса из «Джейн Эйр» с его «бесцеремонной прямотой, упорной пристальностью».
Неписаное правило викторианской этики требовало не выносить сор из избы. И Остен, и сестры Бронте, благочинные барышни в жизни, в литературе «сор из избы» выносят постоянно – и в «Нортенгерском аббатстве», и в «Грозовом перевале», и в «Джейн Эйр», и в многочисленных письмах. Бросают вызов тем, кто выдает внешнюю благопристойность за истинную добродетель, кто полагает, что нравственность и светские условности – синонимы. Читая книги этих несколько необычных викторианок, убеждаешься, что благоденствие, общественную благопристойность, благочинность и незыблемость моральных устоев, верность традиции, англиканской Церкви, отечеству и семейному очагу преувеличивать едва ли стоит. Женское лицо викторианской литературы вовсе не всегда такое благостное, как может показаться, и вымученный хеппи-энд большинства женских романов никого не может ввести в заблуждение, сегодня «они жили счастливо и умерли в один день» воспринимается не более как дань времени. В читательской памяти гораздо дольше остаются и глубже запечатлеваются безотрадные описания диких нравов, царящих в закрытой школе для девочек («Джейн Эйр») или свирепых семейных распрей («Грозовой перевал»).
Такой же данью времени и литературных нравов были и псевдонимы – негласное и почти обязательное условие публикации женских романов и стихов. В Англии (и не только в Англии) позапрошлого века считалось, что у женщины есть дела поважней, чем «бумагу марать». Литература виделась исключительно мужским занятием, да еще не самым, выражаясь современным языком, престижным; то ли дело политика, Церковь, коммерция или спорт; литературой – таков был общий глас – карьеры не сделаешь. Отгадывание псевдонимов превращалось в азартную литературную игру, порождавшую порой самые вздорные сплетни. Когда вышла «Джейн Эйр», по Лондону прошел слух, что автор романа одно время состоял гувернером в доме Теккерея. Маски срывались далеко не сразу и лишь в случае ненужности или крайней необходимости. Только когда «братья» Каррер, Эллис и Актон Белл объявились в Лондоне, издатели поняли, что авторы «Стихотворений» и трех романов – не братья, а сестры, и не Белл, а Бронте. Теккерей и Диккенс вступили в заочный спор: мужчина или женщина скрывается под именем Джордж Элиот. Диккенс угадал, что это женщина, Теккерей же оказался не столь проницателен, автор «Ярмарки тщеславия» заявил, что ни минуты не сомневается: автор – мужчина. А гражданский муж писательницы, ученый и критик Джордж Генри Льюис разыграл издателя «Блэквуд мэгазин», пригласив его к себе на ужин и пообещав познакомить с Джорджем Элиотом, который на поверку оказался женой Льюиса, Мэри-Энн Эванс (она же – Джордж Элиот), создательницей «Адама Бида» и «Сайлеса Марнера» – романов, которые не первый год издавал, не подозревая подвоха, Блэквуд.
Сами же литературные упражнения викторианок на забавную игру походили меньше всего. Родные и даже самые близкие друзья относились к их трудам в лучшем случае без интереса, а порой и настороженно, с недоумением и даже с осуждением. Когда Шарлотта Бронте попросила отца прочесть «Джейн Эйр», тот ответил, что у него нет времени читать и слушать рукописи, и выразил надежду, что дочь «не станет впредь заниматься подобной ерундой». Впрочем, бывали и исключения: отец Джейн Остен, например, не только не отказывался читать романы дочери, но даже помогал их пристраивать, вел переговоры с лондонскими издателями. Для «занятий ерундой» Джейн Остен или Шарлотте Бронте приходилось, урывая час-другой от домашних дел, уединяться с тетрадью где-нибудь в пустующей комнате и творить на краю стола, заставленного посудой и книгами, под детский гомон за стеной. И набраться терпения: проходили месяцы, прежде чем издатель удосуживался дать ответ, далеко не всегда положительный, и годы (как в случае с «Гордостью и предубеждением»), прежде чем рукопись выходила в свет и на нее – счастливый миг! – отзывался хвалебной рецензией авторитетный критик.
И, вдобавок, привыкать к мысли, что написанное не принесет ни славы, ни денег. Ради денег, отдадим викторианским писательницам должное, не писал из них никто. Что же до славы, то ее «эти загадочные англичанки», как назвала свою антологию английской женской прозы Екатерина Гениева, иногда и добивались – вот только дожить до известности удавалось немногим. Те же, кто дожил, как правило, не слишком высоко оценивали свои литературные достижения, нередко были к себе самокритичны, более пристрастны, чем самые взыскательные зоилы. «Я почувствовала себя такой никчемной, такой отчаявшейся, что сказала себе: „Нет, бросаю, ничего у меня не получится„», – сетует Джордж Элиот, дописывая роман «Ромола» из итальянской средневековой жизни, – роман, к слову, и впрямь не очень удачный. «Роман этот слишком легковесен, слишком блестит и сверкает», – пишет Остен о «Гордости и предубеждении», своей лучшей книге, которую, когда она, наконец, спустя без малого двадцать лет, вышла из печати, единодушно расхвалили критики.
И пристрастны не только к себе, но и к своим «сосестрам» по перу. «Точное воспроизведение обыденных лиц… ни одного яркого образа, – пишет об Остен Шарлотта Бронте. – Возможно, она разумна, правдива… но до величия ей далеко… Ее творчество напоминает мне обнесенный высоким забором, тщательно обработанный сад с бордюром и изящными цветами… Мне бы не хотелось жить с ее леди и джентльменами в их изысканных, наглухо запертых особняках».
Чем же женское лицо отличается от мужского?
Богатым воображением? Едва ли; прав рецензент «Британского критика», который отказывает Джейн Остен в воображении, бурной фантазии: «Воображение – не самая сильная сторона ее дарования». И не только ее, на это же обращали внимание и критики, причем вполне доброжелательные, рецензировавшие романы Джордж Элиот, в том числе и «Миддлмарч».
Повышенным чувством моральной ответственности? Но чувство это, утонченность, решительность моральных суждений характерны для многих крупных викторианцев обоего пола.
Занимательностью, фабульностью, тем, что англичане называют «thrill»? Но в этом и Остен, и Шарлотта Бронте, и тем более Джордж Элиот, которая с присущим ей здравомыслием во главу углу ставит не увлекательность произведения, а его правдивость (truth to nature), «проникновение в глубины обычной жизни», заметно уступают и позднему Диккенсу, и Уилки Коллинзу. Приметы готического романа в книгах викторианок, особенно сестер Бронте, отыскать не сложно, но от «романа тайны» («mystery novel») они далеки, им не до разгадки преступлений, к жизни они относятся серьезно и развлекать читателя не склонны.
Сентиментальностью, повышенной эмоциональностью? Но романы Джейн Остен и Джордж Элиот чувствительными никак не назовешь; более трезвого, рассудочного, «без романтических затей» взгляда на английское общество середины позапрошлого века не отыщешь даже у Теккерея, не говоря уж об эмоциональном, увлекающемся Диккенсе.
Орнаментальностью, многословием? И тоже нет: Диккенс, да и скептик Теккерей, не говоря уж о таком «массовом» авторе, как Эдуард Бульвер-Литтон, куда красочнее, многословнее.
Разница между «мужским» и «женским» романом, как кажется, заметнее всего в трактовке героев, а вернее – героинь. Викторианки при всей несхожести выводят на авансцену свой идеал – женщину, с себя списанную, – решительную, мужественную, начитанную, способную справиться с иллюзиями, за себя постоять, распорядиться своей судьбой, а заодно и судьбой своих близких. Сказала же Шарлотта Бронте: «Когда я пишу о женщинах, я больше в себе уверена». Не эти ли черты объединяют столь разных героинь, как Элизабет Беннетт, Джейн Эйр, Мэгги Талливер и Доротея Брукс?
И их создательниц, которые заявляют о себе, не желая считаться с викторианским общественным укладом, с жестким моральным императивом, уготовившими им скромное место на церковной скамье, в кухне, в детской, в лавке по соседству, за шитьем или за роялем.
И которые, как сказано в Прелюдии к «Миддлмарчу», «пытаются сохранить благородную гармонию между своими мыслями и делами».
Непревзойденная Джейн
1
Представим себе контурную карту мира, где заштрихованы лишь острова в Океании, а материки так и остались контурными. То же и с биографией «непревзойденной Джейн»: в жизнеописаниях создательницы современного романа, как нередко называют ныне, с легкой руки Вальтера Скотта, Джейн Остен, фактов куда меньше, чем домыслов, ответов куда меньше, чем вопросов.
О ее родителях, братьях и сестре, о доходах семьи, о быте и обычаях пасторского дома, где Джейн прожила четверть века и написала три романа из шести, о городах и поместьях многочисленных родственников, где Остенам, с их охотой (и необходимостью) к перемене мест, довелось жить, о нравах георгианской эпохи мы знаем – в том числе и из ее книг – гораздо больше и лучше, чем о ней самой.
Почин подобному «перекосу» задан был уже в первой биографии Остен, написанной через сто лет после ее рождения, в семидесятые годы позапрошлого века, сыном Джеймса Остена, старшего брата Джейн, Джеймсом Эдвардом Остеном-Ли. И показательно названной: «Памяти Джейн Остен, и другие семейные воспоминания» („A Memoir of Jane Austen and Other Family Recollections“). Вот и в дальнейших жизнеописаниях автора «Эммы» и «Гордости и предубеждения», в том числе и совсем недавних1, «другие семейные воспоминания» оттесняют историю жизни писательницы на второй план.
Почему это так? То ли потому, что старшая сестра Джейн Кассандра Остен (выполняя волю покойной сестры? стремясь уберечь ее память от пересудов?) уничтожила большую часть их с сестрой переписки. Отчего, нетрудно догадаться, пересудов, загадок, вопросов стало у «джейнистов» не меньше, а больше.
В самом деле, почему Джейн Остен так и не вышла замуж? Отчего неоднократно отказывала претендентам на ее руку, в том числе людям знатным и состоятельным? Решила, что не по любви, как и ее героини, замуж не выйдет, или рассчитывала обеспечить себе положение в обществе литературой? Надежда в те времена еще более зыбкая, чем теперь. Как восприняла внезапное, непредвиденное расставание с возлюбленным – единственным, по-видимому, в ее жизни? Почему вначале назвала свой самый знаменитый роман, известный теперь как «Гордость и предубеждение» („Pride and Prejudice“), – «Первые впечатления»? Сколько псевдонимов у нее было? Только ли «Некая леди» и «миссис Эштон Деннис» – псевдоним, под которым она переписывалась с издателем «Нортенгерского аббатства»? От чего она умерла? Чем перед смертью так долго и мучительно болела? Почему на стене Винчестерского собора только спустя сто лет после ее смерти появилось упоминание, и то краткое, скупое, о том, что она была писательницей? Ведь еще при жизни несколько ее романов появилось в печати2.
Да и в датировке ее книг, у которых между временем написания и годом публикации пролегает по большей части многолетняя дистанция, существует немалая путаница, непроясненность. Роман «Гордость и предубеждение», например, писался в девяностые годы восемнадцатого века, а вышел только в 1813 году; один издатель безоговорочно, даже, кажется, в рукопись не заглянув, отверг ее, а другой, спустя два десятилетия, роман напечатал, получил высокую оценку критиков и потом с успехом дважды переиздавал. Не все понятно и с «Нортенгерским аббатством»: начат был роман, который первоначально назывался «Сьюзан», в 1798 году, когда Джейн было двадцать три года, а опубликован лишь спустя год после ее смерти, в 1818-м. Неужели издателю понадобилось двадцать лет, чтобы принять решение? Верно, печатать роман безвестной двадцатилетней сочинительницы было рискованно, но ведь в десятые годы девятнадцатого века Остен уже известна, она пользовалась достаточно высокой репутацией, и лондонский издатель Джон Кросби не только ничем не рисковал, но мог неплохо заработать.
Нет согласия и в оценке значимости ее наследия – это теперь Остен – признанный классик, чьи книги многократно переиздаются, переводятся и экранизируются. Вальтер Скотт в рецензии на «Эмму» (1816) называет Остен «создательницей современного романа». Автор «Айвенго» превозносит «точность и четкость» ее искусства, «понимание человеческих отношений», «такт, с которым она рисует характеры», и, в первую очередь, – правдоподобие. Спустя сто лет Честертон отмечает ее непревзойденный комический дар, раскрывшийся уже в ранних произведениях: «За изящной, легкой светской болтовней героев утонченные читатели Джейн Остен не рассмотрели громоподобного бурлеска»3. Вирджиния Вулф восторгается «законченностью и совершенством» ее дарования, незаурядным художественным темпераментом. А также – ее вкладом в английскую женскую литературу: «Джейн Остен родилась задолго до того, как препоны, ограждавшие женщин от истины, были (как нас уверяют) сметены сестрами Бронте и искусно устранены Джордж Элиот. И тем не менее факт остается фактом: Джейн Остен знала о людях гораздо больше, чем каждая из них. Очень может быть, Джейн Остен и была ограждена от истины, но не истина от нее»4. Ричард Олдингтон, и не он один, отдает дань ее вкусу: «Дар у Остен был, возможно, более скромным и сдержанным, чем у Диккенса, зато вкус – безупречным, он никогда не изменял ей»5. Вообще, эпитет «сдержанный» – самый, пожалуй, ходовой в разноречивых оценках ее творчества. А вот Шарлотта Бронте высказывается об Остен весьма уничижительно: «Точное воспроизведение обыденных лиц… ни одного яркого образа… Возможно, она разумна, правдива… но до величия ей далеко»6. Примерно такой же смысл и у развернутой метафоры в одном из ее писем: «Ее творчество напоминает мне обнесенный высоким забором, тщательно обработанный сад с бордюром и изящными цветами, но в нем нет живого облика, нет открытого пространства, свежего воздуха, голубых холмов, ярких красок. Мне бы не хотелось жить с ее леди и джентльменами в их изысканных, но наглухо закрытых особняках»7. Почему-то не оценил по достоинству Остен и Теккерей, многое у нее почерпнувший.
Каким человеком она была? Одни находили ее кокеткой и болтушкой. Другие отмечали ее замкнутость, неразговорчивость. «Сидит за столом на званом обеде и помалкивает, – с некоторым неодобрением отозвалась о Джейн одна ее светская знакомая. – Как видно, обдумывает свои прелестные романы». Как выглядела? «Высокая и хрупкая, но не сутулая… – так описывает тридцатипятилетнюю Джейн ее племянница и, несмотря на разницу в возрасте, близкая подруга Анна Лефрой. – Цвет лица, какой бывает у темных шатенок. Кожа в веснушках, но гладкая, здоровый цвет лица, длинные вьющиеся волосы, очень красивые, не светлые и не темные, карие глаза, маленький нос правильной формы». «Довольно высокая и худая, – подтверждает Остен-Ли. – Здоровый румянец, круглые щеки, маленькие, хорошей формы нос и рот… Не так красива, как ее сестра, но по-своему прелестна». Судя же по портретам Джейн кисти Кассандры, прелестной ее назовешь вряд ли. Крепко сжатый, упрямый, волевой рот, пристальный взгляд… «Джейн вовсе не хороша и ужасно чопорна, не скажешь, что это девочка двенадцати лет… Джейн ломается и жеманничает», – пишет о своей кузине Филадельфия Остен8. «В жизни не видела другой такой хорошенькой вертушки, всецело занятой поисками мужа, как Джейн», – вспоминает некая миссис Митфорд, ее знакомая. «Никогда, ни утром, ни вечером, сколько помню, не видела ее без чепчика, – вспоминает Кэролайн, единокровная сестра Анны Лефрой. – Что ж, так принято у не очень молодых женщин». «Джейн превратилась в застывший, безмолвный перпендикуляр – образец счастливого безбрачия… В обществе на нее обращали не больше внимания, чем на кочергу или каминную решетку, – замечает другая ее приятельница, навестившая Джейн в 1815 году за два года до смерти, и добавляет: – Она так и осталась кочергой, но этой кочерги все боятся… острый язычок и проницательность, да притом еще себе на уме – это поистине страшно»9. По другим сведениям, Джейн даже незадолго до смерти вовсе не была «кочергой» или «каминной решеткой»; напротив того, она – права миссис Митфорд – была не синим чулком, а «хорошенькой вертушкой», любила наряды, балы, веселье, всегда, как и ее любимая героиня Элизабет Беннет, готова была шутить и смеяться – отмечали же современники ее «острый язычок и проницательность». Ее книги и письма, те немногие, что сохранились, полны описаний фасонов, шляпок, сведений о модных платьях и кавалерах; в шляпках и платьях, в отличие от кавалеров, она знала толк.
А может, виновата вовсе не Кассандра, и грустная правда в том, что жизнь создательницы «Мэнсфилд-парка» и «Чувства и чувствительности» столь неприметна, не богата событиями («образец счастливого безбрачия»), что и писать о такой жизни особенно нечего. То ли дело биография Сервантеса, Достоевского или Александра Солженицына»! В жизни Остен, в самом деле, почти нет беллетристики, в ней отсутствуют тайна рождения, пылкие страсти, странствия, загадочные повороты судьбы – все то, что делает жизнеописание занимательным, читается как приключенческий или детективный роман, на одном дыхании. «Биографии писателей стали интереснее их писаний», – с грустью замечает в своем дневнике в 1922 году Корней Чуковский10 – нет, это не про Джейн Остен.
Но бывают ли вообще неинтересные, невыразительные жизни? Тем более жизни людей талантливых, незаурядных? Если перефразировать название популярной у нас книжной серии, то можно было бы сказать, что невыразительны не замечательные люди, а их жизнь в описании ничем не замечательных биографов.
Bepul matn qismi tugad.