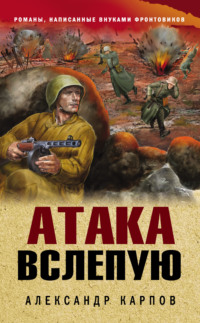Kitobni o'qish: «Атака вслепую»
© Карпов А., 2022
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
Иллюстрация на обложке Вячеслава Остапенко
* * *

Глава 1
– Ну, родимая! – прокричал парнишка-коновод худенькой лошаденке, старательно и натужно тянувшей за собой скрипучую повозку, по обеим сторонам которой свешивались обутые в грязные ботинки ноги сидевших в ней солдат.
Едва не перевернувшись на бок из-за внезапно утонувших в грязи колес по одному борту, повозка качнулась, сильно накренилась, но тут же выровнялась, перескочив через заполненную водой канавку на дороге.
– Ровнее держи! Чего она у тебя все время на сторону заваливается? – заворчал один из седоков в адрес коновода, возмущаясь сильному раскачиванию телеги. – По минному полю едем. Вон, повсюду таблички торчат!
После этой фразы все как один пассажиры повозки, облаченные в грязные, видавшие виды солдатские ботинки, стали бороздить испуганными взглядами обочину дороги, отыскивая таблички, установленные когда-то саперами для тех, кто следовал этим путем на транспорте, пешком или верхом. Они попадались кое-где, особенно в тех местах, где только успел сойти снег и простилался прошлогодний, сильно примятый под тяжестью влаги, пожухлый травяной ковер. Утешающие душу таблички с надписями «Мин нет!», с указанием ниже звания и фамилии ответственного за разминирование данного участка лица, стояли по обе стороны от утопающей в весенней распутице дороги. Часто слова на табличках уже и не были видны за давностью времени их написания, смытые дождями и овеянные ветрами, но бывалые водители и коноводы, не раз проезжавшие именно этим маршрутом, помнили, что на них было написано.
Перемалывая копытами, ногами и колесами повозок мягкий, с обилием влаги, чернозем, налипавший, вперемешку с дорожной глиной, на все, что к нему прикасалось, люди и кони не спеша, устало брели в сторону скрытого лесом земляного городка. Под кронами едва пустивших листву деревьев разместился и широко раскинулся медико-санитарный батальон дивизионного подчинения, выдавший свое местонахождение в этом лесу обилием землянок, перекрытых сверху в два-три наката бревнами, и полуземлянок с двускатными островерхими крышами, а также почти новенькими брезентовыми палатками, установленными на тех местах, где только что успел сойти снег.
Первые повозки из состава длинной, сформированной где-то вблизи передовой колонны начали входить в лесной массив, минуя посты охранения, сформированные из числа лечившихся здесь легкораненых бойцов, стоявших около дороги с винтовками за плечами. Они с интересом рассматривали каждый очередной транспорт, пытаясь увидеть среди бойцов знакомых, что могли рассказать о последних новостях с переднего края. А еще пробовали сами определить, по характеру ранений у прибывающих, что сейчас происходит там, где они сами были некоторое время назад.
Лежащих солдат в повозках почти что не было. Все бойцы в них сидели, а многие и вовсе шли рядом, часто держась то за узду, то за край телеги, сморенные усталостью и тяжестью от налипшей на обувь сырой, а потому тяжелой весенней глины. Повязок, как свежих, так и любых других, говоривших о ранениях, почти ни на ком не было. Никто не стонал, не кричал и не матерился от раздирающей тело боли, как обычно это происходило, когда с передовой срочно везли в санбат тех, кто был ранен и нуждался в срочной помощи врачей и санитаров. Прибывающие в составе колонны солдаты были вовсе не такими, каких обычно сюда привозили. Вид их был вполне спокойным, а лица едва ли не радостными от ощущения того, что на какое-то время они расставались с передовой и поступали в распоряжение тылового подразделения. Здесь, всего в нескольких километрах от опостылевших окопов и траншей, у них не будет постоянного бдения, нервозности, служебной спешки, напряжения от ожидаемой дерзости врага, его удара, артобстрела, авиационного налета или приказа атаковать его передовые позиции, что делалось в последние месяцы довольно часто и происходило с большими потерями среди личного состава. Прибывающие солдаты готовились к короткому, всего в несколько дней, отдыху, считаясь в это время временно не боеспособными.
– Вы откуда такие? – спросил с ноткой удивления в голосе один из тех, кто встречал колонну повозок возле края леса, где находился пост охранения.
– Что, сам, что ли, не видишь? Оттуда, откуда и сам недавно был! – ответил ему сидящий в повозке худой, в засаленном ватнике, грязных штанах и обмотках, солдат, куривший самокрутку и почти не смотревший по сторонам.
Лицо его казалось немного искаженным, но все равно излучало небольшую долю радости от вынужденного удаления от опостылевшей передовой. А лицо было искажено то ли от боли, то ли от усталости. Точно такими же были лица почти у всех, кто прибывал с ним в медсанбат пешком или на повозках. Каждого что-то истязало, не давало покоя, тяготило и, видимо, являлось причиной попадания на лечение. И все это было смешано с нескрываемым облегчением от мыслей о коротком отдыхе.
– Так среди вас и раненых, почитай, нет! – снова прозвучал голос удивленного видом прибывающих солдата, начинавшего внимательно разглядывать всех и каждого из числа пересекавших его пост.
– Будут, не переживай! Война еще не кончилась! – прокричал в ответ ему все тот же, кто сидел в первой телеге и курил, продолжая кривить лицо не то от боли, не то еще от чего-то.
– Андрюха! – неожиданно раздался за спиной первого солдата на КПП хриплый бас второго, что стоял чуть поодаль, а сейчас вышел вперед и сделал несколько шагов в сторону колонны.
– О! Васек! – ответил ему с телеги давно небритый рябой боец, укутанный в шинель поверх грязного, заношенного солдатского ватника, будто замерзал от жуткого холода или мучился от болезненного озноба.
– То из моего взвода, товарищ сержант! – уточнил второй солдат, обращаясь к первому, и продолжил путь навстречу увиденному сослуживцу.
– Ты погоди, Васек! Не до объятий тут! – вдруг одернул бойца рябой с телеги и выставил навстречу идущему к нему ладонь, призывая остановиться.
– Заразные мы тут, парень! Ты лучше не подходи к нам, а то мало ли чего! – вмешался в разговор старых друзей еще один солдат, что сопровождал повозку, следуя рядом пешком.
Боец остановился и с удивлением продолжил разглядывать всех прибывающих, теперь начав осознавать, что у них нет следов ранений, а следовательно, и перевязки.
– И чего с вами со всеми? – отшатнувшись, удивленно и испуганно протянул приветливый солдат на КПП.
– Сыпью исходим. Прямо мочи нет. Все тело ноет, – уточнил ему тот, что поведал о наличии заразы, немного повернув голову назад, чтобы его было лучше слышно.
– Как тиф, только без лихорадки. И тело ноет, а кожа как огнем горит! – пояснил удивленному и напуганному солдату еще один зараженный, что сидел на самом краю повозки.
– О как! – отозвался на все услышанное со стороны колонны стоящий на КПП сержант и потянул на себя за плечо пораженного и напуганного полученной информацией солдата. – Держись подальше от них, парень. Мало ли чего. Не хватало еще и заразу подцепить. А ты только от ранения оправился.
Солдат поежился от слов старшего по званию, втянул голову в плечи и вернулся на свое место.
– Вот вам и новое пополнение, товарищ лейтенант! – послышался невдалеке чей-то раздраженный громкий голос.
Дежурившие на КПП бойцы машинально повернули головы в сторону доносившегося разговора. Оттуда в направлении транспортов шли двое сердитого вида мужчин, один из которых шел чуть впереди второго, сложив руки в карманы когда-то белого, а теперь заляпанного бурыми, плохо застиранными пятнами медицинского халата, надетого прямо поверх ватника. По виду он был старше и по возрасту, и, очевидно, по званию второго, а потому задавал темп ходьбы и маршрут и, по всей видимости, именно ему принадлежала громко сказанная фраза, долетевшая до ушей солдат. Второй был заметно ниже ростом первого, а потому едва успевал за ним, быстро шагающим, от чего вынужден был почти бежать, немного подпрыгивая и не успевая смотреть себе под ноги. Со стороны было заметно, что, как только он опускал голову, чтобы взглянуть под ноги, его очки в роговой оправе начинали сползать на кончик его носа и вынуждали своего владельца все время поправлять их пальцем. На нем, довольно невысоком, была короткополая, будто бы специально укороченная для удобства ношения, шинель. Поверх талии, довольно высоко, она была небрежно опоясана ремнем со сдвинутой, по недосмотру хозяина, вбок пряжкой со звездой. Довершала немного забавную внешность поношенная, изрядно засаленная и закопченная, особенно спереди, видавшая виды комсоставская зимняя шапка, сбившаяся во время бега на затылок владельца.
– И это только первая партия, что медики на передовой отобрали! – продолжил говорить громко, обращая на себя внимание со стороны тот, что выглядел старше и главнее. – Потом, как я думаю, еще подвозить начнут!
– А как быть, товарищ капитан? Такое на целую эпидемию тянет! – заключил, выслушав впереди идущего, лейтенант.
– На подрыв боеспособности это тянет! – резко перебил собеседника старший, неожиданно остановившись и повернув в сторону лейтенанта сердитое лицо, багровое от злобы и волнения. – А это уже настоящее воинское преступление очень серьезного характера, которое в данное время может очень и очень серьезно на нас отразиться. И карается оно весьма и весьма жестко.
Он понизил голос и снова повернулся в том направлении, куда шел ранее, намереваясь лично встретить прибывающих с передовой на лечение в медсанбат солдат.
– А ведь я комдиву, что старому, что новому, докладывал о положении дел, – продолжил он, снова начав двигаться туда, где уже сделали остановку первые, прибывшие на территорию медсанбата повозки с бойцами. – Говорил, что по весне в траншеях антисанитария будет царствовать. Что баню надо чаще солдатам устраивать. Что кормить, в конце концов, лучше надо. Витаминов хватать не будет. Вши зажрут окончательно.
– А комдив что? – спросил лейтенант.
– А что комдив? – ответил капитан, уже теряя интерес к диалогу с собеседником, так как его внимание начинали привлекать прибывшие с передовой солдаты. – У них свыше приказы были. Им воевать надо было, а не помывкой и питанием подчиненных заниматься.
Хмурясь и качая головой от недовольства и волнения, он достал из кармана своего медицинского халата левую руку и, небрежно махнув ею, указал подчиненному куда-то в сторону стоявших в лесу брезентовых палаток, тихо добавив:
– Всех туда ведите, а я через пять минут на осмотр подойду.
Лейтенант в короткополой шинели побежал к повозкам, что-то выкрикивая на ходу, похожее на отдаваемые команды и распоряжения. Старший по званию, проводив взглядом исполнительного подчиненного, закурил, продолжая хмуро рассматривать прибывающих в медсанбат на лечение солдат. Спустя минуту он поставил ногу на высокий пенек, положил на одно колено небольшой блокнот, извлеченный из-за пазухи, и стал что-то записывать в него, постоянно кривясь лицом от густого махорочного дыма.
Капитана давно поджидал стоявший среди деревьев недалеко от него невысокий, под стать исполнительному лейтенанту, боец. Он явно собрался в дальний путь. Солдат был одет в обычный ватник, поверх которого были накинуты крест-накрест на груди шинельная скатка и свернутая на такой же манер плащ-палатка. Обут в ботинки с обмотками почти до колен, на голове шапка, которую он поправил рукой, передвинув с затылка на лоб. За спиной бойца висел худой, потертый и заношенный солдатский вещмешок, а рядом с ним вдоль тела вытянулся автомат с примкнутым магазином. На ремне у него расположились подсумок, фляжка, малая саперная лопатка в чехле и трофейный немецкий нож. Последний придавал виду солдата облик бывалого, немало повоевавшего и не первый месяц жившего фронтовой жизнью человека. Довершал его облик бойца, так не любимый солдатами передовых частей, из-за габаритов и лишнего веса, противогаз в сумке.
Но главное, что выдавало в солдате опытного, изрядно повидавшего в своей, довольно молодой и короткой, жизни бойца, были его глаза, не раз смотревшие в лицо смерти. У таких глаз был равнодушный и в то же время пристальный взгляд, будто сразу машинально охватывающий широкий сектор для ведения огня по врагу. Люди с такими глазами безошибочно вычисляли себе подобных из огромной массы людей. Они встречались взглядами и видели во встреченном человеке себе подобного фронтовика, хлебнувшего по полной в пекле войны, второй год терзавшей родную землю.
Боец поправил за спиной автомат и шагнул вперед в сторону стоявшего на месте и продолжавшего что-то писать в блокнот высокого человека в медицинском халате.
– Товарищ капитан, красноармеец Щукин, разрешите обратиться? – по-уставному произнес боец, резко прикладывая ладонь к виску.
– Красноармеец! Как у вас, товарищ красноармеец Щукин, обстоит дело с освоением введенных в армии новых званий, знаков различия, обозначений? – отозвался капитан, одарив подошедшего к нему солдата резким холодным взглядом, и продолжил писать в блокнот.
– Осваиваю, товарищ капитан, – вполголоса ответил боец.
– Егор Иванович, двадцать третьего года рождения, боец взвода разведки двадцать седьмого артполка нашей стрелковой дивизии, – проговорил капитан спокойным и негромким голосом.
– Так точно! – отозвался солдат, почти равнодушно приняв слова капитана, об осведомленности которого и невероятной памяти ходили едва что не легенды.
Так как офицер, произнося данные о подошедшем к нему бойце, не взглянул на него, продолжая что-то записывать в блокнот, то разведчик не стал выказывать удивления и восхищения по поводу памяти капитана, стараясь угодить старшему по званию, а просто продолжил стоять возле него, ожидая внимания к себе.
– Слушаю вас, товарищ Щукин, – наконец произнес тот, не поднимая лица к солдату.
– Разрешите, товарищ капитан, – начал было боец излагать свою просьбу, но был перебит на полуслове.
– Не разрешаю! И не разрешу никогда.
– Да я за пару дней обернусь, товарищ капитан. День туда, там переночую и сразу назад. Завтра к вечеру в батальоне буду. Мне бы только транспорт попутный поймать, тогда и быстрее получится, – затараторил разведчик.
– Нет! – отрезал капитан, равнодушно продолжая делать запись в размещенном на колене блокноте.
– Товарищ капитан, – не унимался Егор, – я родителей своих почти полтора года не видел. До них сейчас отсюда верст семьдесят-восемьдесят будет. Одни они остались. Может, в последний раз их увижу. От старшего брата с начала войны вестей нет. Младшего недавно призвали, а ему еще и восемнадцати нет. С ними только одна из сестер осталась да невестка, жена старшего брата, с сыном. Разрешите. Я не подведу.
Возникла короткая пауза. Офицер, оторвавшись от записей в блокноте, молчал и тем самым давал солдату маленькую надежду на удовлетворение своей просьбы.
– Когда я вас, Щукин, впервые увидел и пообщался с вами, – на этот раз спокойным тоном начал вести разговор капитан, – я подумал, что вам лет эдак двадцать семь. А оказалось, что только двадцать. И опыта фронтового вам не занимать. И товарищи ваши, что следом за вами прибыли и привезли ваши вещи, много героического рассказали о вас.
– Мне еще нет двадцати, товарищ капитан. В мае только исполнится, – тихо ответил Егор, своим тоном давая понять офицеру о правильном выборе его пути в отказе на свою просьбу.
– Вот именно! – подчеркнул в ответ тот. – А потому слушайте и вникайте в мои слова, товарищ красноармеец Щукин. – Капитан встал во весь свой высокий рост и, глядя на разведчика прямым взглядом, продолжил говорить: – Дивизия, как вам это известно, обескровлена. С конца декабря она почти четыре месяца вела непрерывные бои. В передовых частях людей катастрофически не хватает. Потери были огромными. Каждый боец сейчас на счету. А я должен опытного разведчика у себя в санбате задерживать на целых двое суток? А если вы не вернетесь, задержитесь по каким-либо причинам? Мне прикажете за вас отвечать? – Играя желваками, капитан помолчал, подбирая слова, потом продолжил: – Москву год назад отстояли! Здесь на рубежах намертво встали! Возвращайтесь в свою часть, Щукин, и воюйте, бейте врага, как умеете! У вас через пару дней, как вы к нам прибыли, сыпь на пояснице выскочила, жар начался. Вас от последствий ранения лечить надо было. Вон, левый глаз и зрение вам спасли. Крови сколько потеряли. Чуть живой были. А тут еще и кожная инфекция. А это все от окопной жизни. Погрязли там в антисанитарии, вшей расплодили. Сколько раз в бане были с момента переформирования дивизии?
– Да всего раз, наверное, за всю зиму, – сухо ответил Егор, невольно соглашаясь с причинами своей недавней болезни, которую подцепил уже в санбате.
– Вот именно! А разве так можно? – продолжил капитан. – С передовой сейчас с такими же проблемами уже почти сотню человек только сегодня доставили. А завтра еще подвезут! Я вас, по уставу, в дивизионном медсанбате не больше десяти дней держать обязан. Потом либо в часть отправить, если здоровы, либо в госпиталь, если дальше лечить надо. А вы у меня тут больше месяца проторчали из-за кожной инфекции, вызванной окопной антисанитарией. – Офицер вытянулся перед солдатом и, чуть прищурив взгляд, громко скомандовал: – Кру-у-гом! В свою часть! Шагом марш!
– Есть, – чуть слышно ответил Егор и демонстративно вяло выполнил уставную команду, небрежно козырнув офицеру.
Последняя надежда солдата увидеть родных ему людей рухнула в одночасье. Двумя днями ранее, предвидя скорую свою отправку назад, на передовую, он впервые прикинул свои шансы добраться до деревни, где сейчас в вынужденной эвакуации находились родители, сестра с сыном и жена старшего брата с ребенком. Егор не спал целую ночь, рассчитывая в уме продолжительность пути, наличие дорог, чтобы воспользоваться попутным транспортом. Он обдумывал все, вплоть до мелочей. И уже утром, после того как все же смог задремать, устав от собственных мыслей, он сумел сделать первый заход к командиру медсанбата, попутно узнав о его характере, обычном настроении и слабостях у одной из санитарок, что согласилась с ним поделиться информацией о своем начальнике.
Подкараулив офицера по пути того от столовой к штабной землянке, улучив момент именно в послеобеденное время, рассчитывая на доброе расположение духа после приема пищи, Егор обратился к нему и коротко, по-военному, изложил свою просьбу, клятвенно обещая не подвести и обязательно прибыть в расположение медсанбата в нужное время. К своей речи он заранее подготовился, подобрал нужные слова. Немного надавил на жалость, на родительскую любовь, на то, что может уже в скором времени сгинуть в жерле войны и никогда больше не увидит отца с матерью.
В ответ лишь прозвучало сухое «нет», что перечеркнуло планы солдата на краткосрочное посещение родных. Но надежда у него все равно оставалась. Оставался еще как минимум один шанс отпроситься уже перед отправкой в часть. Егор нервничал, переживал, хмурился, курил, не замечая вкуса махорки, и вновь и вновь подбирал и проговаривал слова, что должен был сказать командиру медсанбата для получения его согласия.
Вторая, последняя на этот раз, попытка также провалилась. А его обращение к старшему по званию вылилось в целую лекцию воспитательного характера. Егор злился и на себя, за лишнюю дерзость и отсутствие должного умения убеждать. Злился он и на капитана, за сухость и нежелание прислушаться к чувствам простого солдата.
Он резко и громко сплюнул, удаляясь от места разговора с офицером, и почти столкнулся лицом к лицу с тем самым низеньким лейтенантом в короткополой шинели и вечно сползающих тому на кончик носа очках в роговой оправе. Тот проскочил мимо разведчика, лишь мельком взглянув на него, и нисколько не возмутился от того, что рядовой боец не поприветствовал его согласно уставу, чего Егор просто не успел сделать, погрузившись в свои мысли.
Пройдя немного дальше, к тому месту, где уже собирались те солдаты, кому предстояло в ближайшие минуты выдвинуться назад в свои части, откуда они недавно прибыли в медсанбат, Егор вспомнил слова капитана о развившейся у него сыпи на спине, происхождение которой объяснялось дивизионными медиками лишь скверными условиями пребывания солдат на передовой.
Это случилось уже через два дня после поступления на лечение раненого разведчика прямо с поля боя. Чуть живого, потерявшего много крови, обессиленного после полуторасуточного рейда в составе разведгруппы за «языком», его привезли в медсанбат. Как был, в окровавленном и местами разорванном в клочья балахоне маскхалата, в промокшей насквозь от пота и снега форме, вплоть до нательного белья и ватных брюк и куртки, Егор лежал в санях и бредил, впадая в полусон и почти сразу пробуждаясь. А рядом с ним был его верный товарищ, которого он сам, примерно год назад, сопровождал точно так же на лечение после ранения.
Егора тогда передали медикам. Внесли на руках в землянку, где была оборудована пахнущая перевязочными материалами, спиртом и гнильем операционная, где его раздели для осмотра, срезав остатки маскхалата, стянув мокрый ватник, грязную, кишащую окопными вшами гимнастерку и нательную рубаху, обнажив перед доктором худое, черное от блиндажной копоти, покрытое гнойными рубцами тело бойца.
– Он герой, товарищ военврач! – прозвучал где-то позади голос сослуживца Егора, сопроводившего его в дивизионный медсанбат. – Его надо обязательно спасти и вернуть в строй. Он герой! Он жить обязан! Такой не должен умереть!
– Покиньте помещение! – Сухо, громко и строго произнесенное приказание было последним, что услышал тогда разведчик, отключаясь от внешнего мира и впадая от кровопотери в полубред.
А потом, когда рана была промыта и тщательно обработана, сделана перевязка, он уснул крепким сном, провалившись в него, отчего не знал, что, выходя из операционной, военврач, уже просто и без лишней строгости, сказал все еще ждавшему результата его работы разведчику, доставившему Егора в санбат:
– Глаз у парня цел! Видеть должен, как и раньше. Только крови много потерял. А вот одежда на нем почти вся сгнила и вшей на целое ведро! Переодеть мне его не во что. Поэтому вам надо раздобыть для него полный комплект белья и прочей одежды. А то в бане его помоют, а одежды нет никакой.
– Сделаю, доктор, достану! Старшину наизнанку выверну! Все, что нужно, доставлю! С иголочки Егора обмундируем! Как новенький будет! Вы только лечите его как надо. Он герой! Такого «языка» помог добыть! – тараторил в ответ разведчик, почти что роняя слезы счастья, радуясь за друга.
И уже на следующий день, по неписаному закону всемогущих и вездесущих разведчиков, в медсанбат было доставлено неновое, но тщательно выстиранное нательное белье, портянки, обмотки, а также вещи Егора: шинель, плащ-палатка, вещмешок. Все было прожарено, чтобы уничтожить вшей, аккуратно уложено в стопку и перевязано, словно посылка из глубокого тыла.
Но вместе с ними прибыла и тяжелая для всех весть: погиб командир дивизии! Тот, кто формировал ее полгода назад. Кто шел с ней к передовой, к линии фронта. Кто воевал, до последнего момента выполняя свой долг перед Родиной, перед своими солдатами. Кто отдал свою жизнь наравне с рядовыми. Его больше не было с ними. Он погиб, а его дивизия словно осиротела, погрузившись в траур.
– Павла Никитича больше нет! Полковник Иванов погиб! – словно рвущий барабанные перепонки гаубичный залп, прозвучал в землянке тихий заплаканный голос медсестры.
– Не может этого быть! – невольно отозвался кто-то из раненых солдат.
И едва пришедший в себя Егор отвернулся к бревенчатой стене и почувствовал, как из-под бинта на левой стороне лица потекла его горькая скорбная слеза. Командира больше не было в живых. Погиб комдив! Погиб тот, чей приказ он выполнял до конца и выполнил, не считаясь ни с чем, как и подобает настоящему разведчику.
Из оцепенения, вызванного горьким воспоминанием о недавних событиях, Егора вывел голос того самого низенького лейтенанта в очках и короткополой шинели, дававшего команду на оправку в свои части выздоровевших солдат.
– Ну вот, опять в пекло вертаемся, – пробурчал один из них, сплевывая от досады.
– Да уж, – протянул кто-то рядом.
– Денька бы два еще дали отдохнуть. Ведь успеем навоеваться, – сухо добавил третий.
Два десятка молодых мужчин в шинелях и ватниках, с вещмешками и оружием за спинами, неспешно погрузились на пустые телеги, которые сразу тронулись в направлении передовых позиций дивизии.
Егор запрыгнул на последнюю повозку, разместившись лицом назад, и равнодушно уставился на мелькавших между деревьев санитаров в серо-белых медицинских халатах и бойцов в солдатских шинелях, которых привезли с передовой лечиться от кожной инфекции, вызванной окопными условиями жизни.
– Повезло ребятам, – произнес кто-то за спиной разведчика, – отоспятся, подлечатся, в бане помоются, вшивую одежонку прожарят, отдохнут.
Последнее слово было сказано с ноткой зависти к больным. А вот им, возможно, уже сегодня предстоит заступить на пост в передовом охранении, возможно, участвовать в бою или, как может случиться у самого Егора, выдвинуться в тыл противника в составе группы разведчиков. От этой мысли парень нахмурился, сердясь, оттого что уже никак не может повлиять на ход событий.
А вот завидовать прибывшим он не стал. Слишком болезненно проходила та самая кожная инфекция у него, когда одновременно болела голова после контузии и ныла рана возле левого глаза. И, казалось бы, лежать ему спокойно сейчас на медсанбатовской, крытой прошлогодней, чуть подгнившей соломой койке и наслаждаться покоем не меньше десяти отведенных уставом дней. Да неведомо откуда-то взявшаяся на спине сыпь стала жечь так, что порою солдату выть хотелось.
«Болит?» – спросил его тогда кто-то из пожилых санитаров, интересуясь состоянием бойца, первого из дивизии, у кого была выявлена болезнь от антисанитарных условий передовой.
«Не знаю, что больше», – выдавил сквозь зубы Егор и неожиданно засмеялся сквозь слезы от собственной беспомощности перед недугом и последствиями ранения.
«Значит, поправишься, если смеешься!» – ответил ему заулыбавшийся санитар.
Когда очередной бугорок на дороге совсем скрыл из вида окрестности медсанбата, разведчик начал чувствовать тепло от апрельского солнца, припекавшего все сильнее. Он перекинул со спины вещмешок, извлек из него свою пилотку, отправив на ее место снятую с головы шапку, и сосредоточился на лицезрении вида местности. Вся земля вокруг была изранена войной. Его родная земля, где он родился и прожил почти всю жизнь совсем недалеко отсюда, за исключением двух лет, что провел в техникуме, приезжая домой только на каникулы.
И как бы он сейчас хотел вновь вернуться в тот самый старый деревенский родительский дом, где пахло свежевыпеченным матерью поутру хлебом, особенным теплом от печи, молоком и супом, называемым в этих местах похлебкой. Вернуться туда, где подвывал в хлеву у соседей теленок, кудахтали куры, лаял где-то в стороне цепной пес, пролетали и садились на крышу птицы, стучал молот в кузне, бегали и кричали ребятишки и бранились на дороге повздорившие хозяйки.
Ничего этого сейчас уже не было. Все было начисто стерто с лица земли полтора года назад. Все было уничтожено в пламени пожарищ, охвативших всю округу, все окрестные деревни и села. Все пылало в едином порыве на глазах у чудом спасшихся от огня людей, разбуженных рано утром голосами немецких солдат, занимавшихся поджогами домов и надворных построек. Они подносили заранее смоченные в бензине факелы к низеньким, крытым, как правило, соломой крышам, которые моментально вспыхивали, превращая человеческое жилище в огромный костер, дым от которого, сливаясь с массой других непроглядных столбов едкой гари, разносился по округе, полностью накрывая ее.
Повсюду метались чудом спасшиеся деревенские жители, пытавшиеся до последнего вытащить из огня все то, что считали ценным. Но почти ничего ни у кого не получалось, и тем единственным, что все же было выхвачено из объятых пламенем собственных домов, были лишь маленькие дети, наспех одетые и укутанные в одеяла, да иконы, в последний момент заткнутые за пазуху. Повсюду раздавались истошные крики, плач, громкие проклятия и лились слезы, слезы, слезы обескровленных и выброшенных на лютый мороз людей, который в первую военную зиму был особенно крепким.
Теперь же там, где до войны, с незапамятных времен, стояла довольно большая деревня, где родился и вырос Егор, оставались лишь обугленные нижние венцы когда-то крепких сельских построек. И еще до конца осени следующего года на месте многих из них возвышались черные от копоти каменные трубы печей.
Теперь уже и труб этих видно не было, потому как ушлые саперы, да просто солдаты из развернутых по округе воинских частей, разобрали их на отдельные кирпичики, чтобы сложить для себя простенькие печурки в своих блиндажах и землянках. И, наверное, кто-нибудь из них, ломая печную трубу на месте бывшего дома семьи Щукиных, прочитал на ней надпись, сделанную разведчиком при помощи кусочка мела, найденного на руинах местной школы. Еще летом, освободившись от служебных обязанностей, Егор украдкой от командира взвода, от своих товарищей пробрался ночью к родным местам, где проплакал почти до утра в темноте, и уже под утро, дождавшись наступающего рассвета, сжав от злости волю в кулак, нацарапал на печи: «Я отомщу!»
И он отомстил! Не раз и не два. Он мстил много раз. Мстил старательно. Каждый раз, когда выбирался по приказу командира на передовую и вел наблюдение за передовыми позициями врага, когда отправлялся на задание, чтобы провести тщательную разведку, когда уходил в составе группы за «языком», когда прикрывал отход своих товарищей, принимая весь огонь преследователей на себя.
Жажда месть обуяла его. Она руководила им. С мыслью о мести он засыпал и просыпался. Он бредил отмщением за родной дом, за погибших селян, за не вернувшихся с боевых заданий друзей, за павших в бою однополчан. А рядом с ним были такие же обездоленные, лишенные дома и близких людей солдаты. У кого-то дом и семья остались там, где сейчас засел враг, где царят оккупационные порядки. У кого-то и вовсе никого и ничего уже не было, потому как пламя войны забрало все живое и неживое, что имелось в мирное время у человека.
И если Егор был осведомлен о своих родственниках, о месте их нахождения, о быте, о жизни, писал им письма и получал ответные послания, то рядом с ним служили и такие, кто не имел такой возможности и даже не ведал о судьбе родных и близких абсолютно ничего.