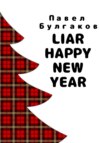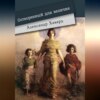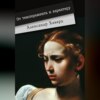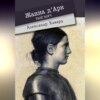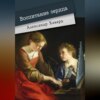Kitobni o'qish: «7 ПРОРОКОВ. Антропология мирового кризиса»
7 ПРОРОКОВ.
Антропология мирового кризиса
Некоторые из 7 «пророков», представленных в этой книге, предвещают великие потрясения, которым они способствуют своими идеями (Декарт, Руссо, Ницше). Другие предвещают те же самые потрясения, но указывают пути их преодоления (Паскаль, Кьеркегор, Достоевский, Соловьёв). Не исследовав и тех и других, трудно понять суть мировой драмы, которая сейчас разыгрывается перед нашими глазами, и сделать верный шаг.
Предисловие
«Пока длится это состояние, человеку хватает себя самого, как Богу»…1 Впервые я услышал эти слова Жан-Жака Руссо в 10-м классе. Слова эти показались мне подлыми и гадкими, и я как по наитию повторял их каждый раз, пересекая порог школьного туалета. Мне представлялось, что каждый день, каждый час, каждую секунду, в луже самонадеянности тонет масса талантливых людей.
Помню нашего преподавателя философии в 11-м классе. Он с гордостью говорил об интеллектуальных открытиях Декарта, Канта и Гегеля: «Красивый закат, ребята, существует в реальности лишь тогда, когда он изначально уже существует в вашем мышлении. Не будь человеческого мышления, ничего бы не было. Бытие – плод человеческого мышления. Реально только мышление мыслящего субъекта, остальное – лишь продукт этого мышления». Хотя я был ещё подростком и не смотрел фильм «Матрица» (он вышел на экраны 20 лет спустя), я воспринимал слова нашего преподавателя как фантастический бред.
Но когда, через полгода, я прочитал в нашем учебнике по философии известные слова Альбера Камю «Сознание возникает вместе с бунтом»2, я сильно обрадовался: бунтовать надо против самого себя – против собственного духовного равнодушия!
Влияние философии на нашу жизнь – на образование, культуру, политику, бизнес – бесспорно. Платон вдохновлял бóльшую часть христианского мира вплоть до XIII-го века. Аристотель и Фома Аквинский вместе вдохновляли европейские народы с XIII-го по XVI-й век. С XVII-го века вдохновлял Декарт. В XX-м веке Маркс формировал мышление мировых элит, и марксизм определил судьбу множества народов. В начале третьего тысячелетия Ницше остаётся уникальным образцом для всё новых и новых кандидатов на «сверхчеловечество», а Руссо – интеллектуальным отцом множества псевдо-религий, стремящихся вот уже 200 лет к ряду – с удивительным успехом – подменять собой христианство.
Философы создают идеи, завоёвывающие сердца и умы людей – во благо или во зло. Очень важно исследовать эти идеи, чтобы различать, где истина, а где ложь, однако важнее всего исследовать человека, порождающего эти идеи.
«Изложить историю жизни Иммануила Канта трудно. Ибо не было у него ни жизни, ни истории»3. Так писал немецкий поэт Генрих Гейне. Философ без жизни и без истории… Можно ли доверять такому философу? Можно ли жить по его представлениям? А если можно, надо ли?
Мы очень любим спорить о философских идеях, но редко интересуемся личностями их создателей. Нам интересно то, что говорит философ, а не то, кем он является. Это серьёзная ошибка, ибо за идеями философа скрывается человеческое сердце, и если сердце испорчено, испорчены и созданные им идеи, а тот, кто впитывает в себя эти идеи, портится сам. Верно и другое: благородные идеи очень часто свидетельствуют о благородном сердце философа.
Эта книга начинается с Декарта (1596-1650), основателя философии Нового времени. Декарт стремился к достоверному знанию, что естественно для учёного. К сожалению, для достижения этой цели он создал метод, согласно которому человеческое мышление есть единственный критерий достоверности: «Я мыслю, следовательно, я существую4». Моё существование доказано тем, что я мыслю. Если я перестану мыслить, исчезнут доказательства моего существования. Следовательно, я существую тогда и только тогда, когда я мыслю. Декарт сводит бытие к мышлению. Его «Мыслю, следовательно существую» неизбежно становится «Существую, потому что мыслю». У Гегеля, завершителя дела Декарта, мышление перестаёт быть доказательством бытия: оно становится причиной бытия, производит бытие. Декарт скорее всего не понимал, куда идёт. Сделав мышление единственным критерием бытия, он поверг человечество в пучину субъективизма.
В первой части мы изучим тех, кого я называю разрушителями: Декарта, Руссо, Ницше. В каждом из этих трёх философов атрофированы определённые сферы бытия: сердце и воля Декарта подавлены разумом; разум и воля Руссо удушены сердцем; разум и сердце Ницше поглощены волей. Декарт – рационалист, Руссо – сентименталист, Ницше – волюнтарист.
Декарт, не религиозный, но внешне верующий во Христа, создал образ мышления, несовместимый с верой вообще. Он, сам того не осознавая, стал интеллектуальным отцом современного атеизма. Руссо, религиозный, но не верующий во Христа, создал позорную, но успешную пародию на христианство. Ницше, нерелигиозный и неверующий, создал жестокий и драматичный образ сверхчеловека, антитезы Богочеловека христианской религии.
Декарт, Руссо, Ницше – основоположники. Кант и Гегель – продолжатели Декарта, они строят системы на основе картезианской идеи. Это мощная философия, но её оригинальность «второстепенна». Мы не будем говорить о них.
Маркс – продолжатель Руссо, но мы не можем не сказать о нём несколько слов, поскольку марксизм был преобладающей идеологией XX-го века. Подобно Руссо, Маркс – религиозное существо, но в отличие от французского философа, он верил во Христа и даже объявил Ему войну5. Маркс, в шестилетнем возрасте крестившийся в лютеранской Церкви, – сатанист. Он писал «сатанинские стихи», опубликованные ещё при его жизни в немецком журнале Athenäum: «Адские испарения поднимаются и наполняют мой мозг, пока не сойду с ума и моё сердце в корне не переменится. Видишь этот меч? Князь тьмы продал его мне».6
Роберт Пейн и Ричард Вурмбранд цитируют другие, не менее откровенные стихотворения Маркса: «Я утратил небо и прекрасно знаю это. Моя душа, некогда верная Богу, предопределена для ада (…). Мне не осталось ничего, кроме мести! Я высоко воздвигну мой престол, холодной и ужасной будет его вершина, основание его – суеверная дрожь (…). Скоро я прижму вечность к моей груди, и диким воплем изреку проклятие всему человечеству (…). И увижу падение пигмея [Христа] – гиганта, которое охладит мою ненависть. Тогда богоподобный и победоносный я буду бродить по руинам мира, и вливая в мои слова могучую силу, я почувствую себя равным Творцу».7
Ницше называл себя «антихристом», но это была «шутка», ведь он не веровал во Христа. Маркс – антихрист «не в шутку», он личный враг Бога (так о себе говорил Ленин). Марксизм – инструмент, созданный Марксом для борьбы с Богом. Маркс верил в своё учение как в могущественное оружие зла, но не верил, разумеется, в марксистскую «науку» – в исторический материализм, в земной рай в коммунистическом государстве без религии, без семьи, без частной собственности. Маркс смеялся над Богом и над человечеством. Ему не было дела до пролетариата – он мечтал об уничтожении иудео-христианской цивилизации. Марксизм есть явление сатанинское, красочно описанное Достоевским в романе «Бесы» ещё при жизни Маркса.
«Социализм, – писал Николай Бердяев в 1906 году, – сразу же заявил претензию стать религией для нового человечества, и внутренняя связь его с религией не подлежит сомнению»8. «Социализм имеет мессианский характер, – пишет в другом месте русский философ (…). – Пролетариат – новый Израиль (…). Избранный класс осуществляет наконец то обетованное земное царство, блаженство во Израиле, которое не осуществил Мессия-Распятый. Это и есть тот новый мессия, устроитель земного царства, во имя которого был отвергнут старый Мессия, возвестивший царство не от мира сего (…). Переход власти к этому классу будет означать прыжок в царство необходимости, в царство свободы, мировую катастрофу, после которой и начнется истинная история или сверхистория».9
Марксизм прошёл10, но он был всего лишь одним из многочисленных вариантов руссоизма. Руссо, интеллектуальный отец всех современных псевдо-религий, остаётся крайне актуальным.
Декарт, Руссо и Ницше – вот наш сегодняшний мир. Это мир субъективизма (Декарт), управляемый жаждущими власти сверхчеловеками (Ницше) в атмосфере всеобщей тоталитарно-сентиментальной религиозности (Руссо).
Субъективизм. Бытие зависит от моего мышления. Бытие субъективно, а с ним – истина и добро. Бытие, истина и добро – это «конструкции» моего мышления. Нет объективного бытия, объективной истины, объективного блага. Я чистый субъект: нет объективных принципов человеческой природы – нет человеческой природы, нет человека. Есть только моё мышление, мои идеи и представления. Поскольку не существует объективной истины и объективного блага, я требую «толерантности» по отношению ко всем моим идеям, взглядам, капризам.
Сентиментализм. Если идеи и ценности относительны, если нет ничего больше меня, единственное, что может сделать меня счастливым – мои эмоции и чувства, я сам. Мои переживания – это моё правило. Мои эмоции – это моя религия.
Тоталитаризм. Преобладающая идеология, которой подчиняется капитал, управляет моими эмоциями через массовую коммуникацию. Массовая коммуникация стимулирует мои переживания. Мне это приятно. Я чувствую, что я живу. В полученной мной информации, мне неинтересно, где правда, а где ложь, ведь я знаю, что всё субъективно. А того, кто мешает моему счастью, навязывая мне так называемые «объективные» идеи или ценности, я просто «отменяю».
Вот плоды философии Декарта, Руссо и Ницше. Субъективизм (Декарт) естественно порождает сентиментализм (Руссо), из которого так же естественно рождается тоталитаризм, управляемый сверхчеловеками (Ницше).
Интеллектуальный субъективизм порождает презрение к разуму. Разум подменяют эмоции, которыми манипулирует каста людей в своей борьбе за власть. Экзистенциальную пустоту, вызванную выхолащиванием разума, заполняет религия чувства, посредством которой современные инквизиторы покоряют себе человечество, отменяя «неадекватных» людей. Вот как «толерантность» оборачивается «отменой».
Субъективизм неизбежно приводит к тоталитаризму, потому что он уничтожает все параметры, критерии, указатели. При субъективизме всё, даже самое невообразимое, становится возможным. Любые преступления можно оправдать. Нет больше ни разума, ни здравого смысла. Есть только мои эмоции и те, кто их поддерживает и ими манипулирует.
Если бы Декарт знал, куда его «cogito» нас приведёт!
Изучив в первой части разрушителей (Декарт, Руссо, Ницше), во второй части мы перейдём к созидателям (Паскаль, Кьеркегор, Достоевский, Соловьёв). Созидатели – цельные личности, в которых мощным аккордом взаимодействуют сердце, разум и воля, что позволяет им раскрыть всю фрагментарность разрушительного мышления и указать пути его преодоления.
Паскаль призывает нас возвращаться к своему сердцу, чтобы восстановить разум в мире, утопающем в субъективизме и инфернальной сентиментальности.
Кьеркегор призывает нас жить аутентичной, уникальной и неповторимой жизнью в мире, поглощённом массовой культурой, конформизмом, политкорректностью, безликой всеобщностью, мифической «общественной волей» и всякими – старыми и новыми – формами тоталитаризма.
Достоевский призывает нас спасти в себе человечность, достоинство и свободу в мире, бесстыдно предлагающем нам променять это сокровище на спокойную и комфортабельную жизнь.
Соловьёв призывает нас практиковать всеединство жизни, обóживать все аспекты (личные и социальные) человеческого существования, освящать профессиональную, общественную и семейную жизнь, наполняя её христианским духом, строить Царство Божие в самом сердце общества в мире, от которого христиане склонны бежать во имя неправильно понимаемого смирения.
Паскаль, Кьеркегор, Достоевский и Соловьёв поразительно актуальны. Каждый из них по-своему просвещает нас, вдохновляет и побуждает к действию.
Часть I. РАЗРУШИТЕЛИ
.
1. РАЦИОНАЛИЗМ РЕНЕ ДЕКАРТА (1596-1650)
Рене Декарт родился 31 марта 1596 года в городе Ла-Э-ан-Турен, расположенном между Туром и Пуатье, в дворянской семье среднего достатка. Рене был младшим, третьим сыном.
Мать скончалась, когда ему был всего год от роду.
Отец был советником парламента Бретани в городе Ренн и редко виделся со своими детьми. Воспитанием мальчика занималась бабушка по материнской линии.
В детстве Рене отличался невероятной любознательностью. Отец называл его своим «маленьким философом». Начальное и среднее образование юный Декарт получил в престижном иезуитском коллеже в городе Ла Флеш, неподалёку от Анже.
Заметив хрупкое здоровье ребёнка, иезуиты разрешили ему вставать в 11 часов утра, а не в 5, как остальным. Декарт держался этой привычки до конца своей жизни.
В 20-летнем возрасте Декарт окончил коллеж с глубоким чувством отвращения к тогдашнему образованию. Он пишет: «Как только я окончил школу (…), я так запутался в сомнениях и заблуждениях, что, казалось, своими стараниями в учении я достиг лишь одного: всё более и более убеждался в своем незнании. А между тем я учился в одной из самых известных школ в Европе и полагал, что если есть на земле где-нибудь учёные люди, то именно там они и должны быть».11
Вот почему «как только возраст позволил мне выйти из подчинения моим наставникам, – продолжает Декарт, – я совсем оставил книжные занятия и решил искать только ту науку, которую мог обрести в самом себе или же в великой книге мира, и употребил остаток моей юности на то, чтобы путешествовать, видеть дворы и армии, встречаться с людьми разных нравов и положений и собрать разнообразный опыт, испытав себя во встречах, которые пошлёт судьба, и всюду размышлять над встречающимися предметами так, чтобы извлечь какую-нибудь пользу из таких занятий».12
Некоторое время Декарт изучал право в Пуатье. В 22 года он поступил на военную службу – сначала в протестантской Голландии, союзнице Франции в войне с испанцами, затем в Германии, в Католической Лиге, воюющей с чешскими протестантами.
В Голландии Декарт познакомился с физиком Исааком Бекманом, который занимался математическим анализом физических явлений. В Германии Рене заинтересовался розенкрейцерами, учение которых построено на принципах эзотерики. Он посвятил им своё сочинение «Математический тезаурус Полиба-Космополита» (1619).
10 ноября 1619 года, в Баварии, Декарт замёрз так сильно, что утром залез прямо в печь и провёл там весь день в размышлениях. Именно тогда к нему пришло видение – математическая картина мира. Декарт сделал вывод, что законы вселенной можно вывести с помощью неких универсальных математических выкладок. В дневнике философа мы находим заметку: «10 ноября 1619 года я начал понимать основания чудесного открытия», возможности утверждения всех наук на прочном математическом основании.
Декарт был так потрясён собственным открытием, что пришёл в состояние крайнего возбуждения. Той ночью он видел три сна подряд. Философ настолько убедился в своей божественной избранности, что принял обет «перед концом ноября» совершить паломничество к святыне Божией Матери в Лоретто.
Декарт не исполнил свой обет: Лоретто он посетил уже много лет спустя во время путешествия в Италию, куда отправился по совсем другим соображениям.
В автобиографических воспоминаниях «Рассуждения о методе» Декарт пишет: «И так как это [проповедь новой науки] было дело великой важности, в коем надо было опасаться всякой поспешности и предубеждения, то я никак не должен был брать на себя довести его до конца прежде, чем достигну возраста более зрелого, чем 23 года, какие имел тогда, и прежде, чем употреблю много времени на подготовительную работу, искореняя из ума моего все недоброкачественные мнения, до того приобретённые, собирая запас опытов, который послужил бы материалом для моих размышлений, и упражняясь постоянно в принятом методе, дабы укрепляться в нём более и более».13
В 1621 году он ушёл из армии, какое-то время прожил в Италии, а затем, в 1625 году, обосновался в Париже, где, предаваясь научной работе, открыл принцип виртуальных скоростей. В 1628 году он присоединился к армии Ришельё, осаждавшей город Ла-Рошель – крепость гугенотов.
В 1629 году, в поисках покоя и безопасности (он боялся преследований со стороны властей за свои научные идеи), он снова обосновался в протестантской и республиканской Голландии, где вёл обширную переписку с лучшими учёными Европы, изучал самые различные науки – от медицины до метеорологии. В течение двадцати лет своего пребывания в Голландии Декарт менял место своего жительства пятнадцать раз, тщательно скрывая адрес от своих корреспондентов.
В 1634 году он завершил работу над трактатом «О мире и свете». Однако, узнав, что инквизиция только что осудила Галилея за его учение о движении Земли, он испугался (Декарт, как и Галилей, был сторонником гелиоцентризма) и принял решение не печатать эту работу.
В 1635 году от горничной у Декарта родилась дочь Франсина, умершая в пять лет от скарлатины. Её смерть стала тяжёлым ударом для Рене.
В 1637 году появилась книга «Рассуждение о методе», ключевая работа в истории мышления, где Декарт выдвигает тезис «Я мыслю, следовательно, я существую». В 1641 году он опубликовал «Размышления об основах философии», где сформулировал своё учение о дуализме духа и тела (дух и тело – два абсолютно независимых друг от друга начала), а в 1644 – «Начала философии», где утверждает, что вселенная, хотя и сотворена Богом, действует как самостоятельный механизм.
«Размышления» и «Начала» продавались плохо, однако, сравнительно небольшой кружок поклонников популяризовал и пропагандировал его идеи.
Голландия не оказалась, как думал Декарт, страной свободы: он стал объектом нападок со стороны протестантских фанатиков, обвинявших его в атеизме.
Через своего друга Пьера Шаню, французского посла в Стокгольме, он вступил в переписку с королевой Кристиной Шведской, смелой и учёной дамой. Она пригласила его ко двору и в сентябре 1649 года послала за ним военный корабль. Позже выяснилось, что она хотела брать у Декарта ежедневные уроки, но не могла найти свободного времени, кроме как в 5 часов утра. Непривычный ранний подъём был отнюдь не самым приятным для него занятием.
Декарт буквально надорвался. К тому же холодная шведская зима губительно повлияла на его здоровье. Простудившись, 11 февраля 1650 года, на девятый день болезни, он умер от воспаления лёгких.
Некоторое время философию Декарта поддерживали иезуиты, надеявшиеся с её помощью бороться против повсеместного распространения материалистических взглядов. Со временем они же признали философию Декарта опасной и повели против неё решительную борьбу. Людовик XIV специальным указом запретил преподавание философии Декарта во всех учебных заведениях Франции. Однако на рубеже веков, когда преследование несколько стихло, обнаружилось, что во всех университетах Франции под видом аристотелевской философии преподают картезианскую.
Спустя 17 лет после смерти учёного его останки были перевезены из Стокгольма в Париж и захоронены в аббатстве Сен-Жермен-де-Пре. Хотя Национальный конвент ещё в 1792 году планировал перенести прах Декарта в Пантеон, он всё так же продолжает покоиться в аббатстве, а его череп – в Национальном музее естественной истории.
Декарт – крупный учёный, основоположник всего теоретического естествознания Нового времени. Он настоящий гений аналитики, хотя порой делает сомнительные открытия. Он был убеждён, например, что человеческий дух находится в шишковидной железе…
Выдвинув тезис «Я мыслю, следовательно, я существую», Декарт заложил фундамент философии Нового времени, неосознанно став интеллектуальным отцом современного субъективизма, агностицизма и атеизма.
ЛИЧНОСТЬ ДЕКАРТА
Декарт – сухая, эгоистическая натура. Вокруг него собирается круг восторженных поклонников, но, по-видимому, сам он никого не любил.
Хотя Декарт всю жизнь тщательно выставляет себя верным сыном католической Церкви, он равнодушен к религии. Декарт ходит на Мессу и старается оградить себя от небезопасных обвинений в ереси, но его католичество – всего лишь расчётливая формальность в угоду окружающим. Декарт – человек осмотрительный, не желающий ссориться ни с властями, ни с духовенством.
Когда несколько католических учёных выступают, несмотря на осуждение Галилея, с защитой учения Коперника, Декарт молчит. В нём мало искренности. Его девиз: «Qui bene latuit, bene vixit» (счастлив тот, кто хорошо прячется).
Кажется, Декарт верует в «базовые» общехристианские истины, такие как существование Бога, сотворение мира из ничего, бессмертие человеческой души, свободная воля человека, Богочеловек. На самом деле, никто не знает во что искренне верует Декарт. Ему важно показать, что он верует, но чем больше он старается убедить нас в своей ортодоксальности, тем больше сомнений она у нас вызывает.
Воинскими доблестями Декарт не отличается. В Голландии и Германии он не воюет, а сидит дома и занимается математикой. На офицерский мундир он смотрит как на паспорт, дающий ему возможность путешествовать. В Ла-Рошель он пошёл не воевать, а посмотреть вызывавшие тогда общий интерес в инженерном мире осадные работы.
Декарт самолюбив. По глубокому убеждению мыслителя, его критикуют лишь те, кто завидует его гению. Он постоянно утверждает, что ничего не заимствовал у других учёных, не признаёт их заслуги и ревниво относится к чужой славе. Следующая история тому пример. Во время поездки во Францию в 1645 году Декарт познакомился с молодым Блезом Паскалем. В беседе учёные затронули злободневную тему опытов Торричелли с барометром. Спустя два года Паскаль провёл свой знаменитый опыт, доказывающий вес воздуха, и ревнивый Декарт, не допускавший, чтобы какие-либо крупные открытия совершались без его участия, впоследствии утверждал, что идею этого опыта подсказал именно он. Паскаль же говорил, что этот опыт так сам собой напрашивался, что он вряд ли нуждался в подсказках Декарта.
Нравственная философия Декарта ограничивается простыми правилами житейской мудрости: «Во-первых, повиноваться законам и обычаям страны, сохраняя религию, в которой по благости Божьей воспитан, и следуя во всём остальном мнениям наиболее умеренным, удалённым от всяких крайностей и общепринятым наиболее благоразумными людьми в кругу, где буду жить (…). Во-вторых, – быть твёрдым и решительным в действиях (…). Третье правило – стремиться всегда побеждать скорее себя, чем судьбу, изменяя свои желания, а не порядок мира»14. Если второе правило (решительное исполнение своих решений) – призыв к добродетели, то первое (не вдаваться в крайности) и третье (не стремиться к общественным преобразованиям) – призыв к малодушию. Они и по сей день смущают даже благоговеющих перед Декартом людей.
Декарт обладает мощным умом, но его сердце и воля ущербны. В нём атрофировано как религиозное, так и нравственное чувство.
ДОСТОВЕРНА ТОЛЬКО МАТЕМАТИКА
Лютер очень страдал от того, что он, грешник, не был уверен в своём спасении, и потому создал систему, отменяющую любое сомнение: «Я спасён, если верую, что Христос – мой спаситель. Не важны мои грехи – сколько их и какие они».
Декарт тоже хотел уверенности – только не в сфере спасения, как Лютер, а в сфере познания. При этом он хотел уверенности не богословской, не метафизической, не интуитивной, а математической. Для него уверенность может быть только математической. «Особенно нравилась мне математика, – пишет он, – из-за достоверности и очевидности её доводов».15
Стремление к достоверности познания – разумно (нельзя верить во что угодно), но стремление к достоверности исключительно математической – безумно. Человек познаёт сначала сердцем, а потом уже разумом. «Сердцем, – пишет Паскаль, – мы постигаем первые начала (…). Знание первых начал – пространства, времени, движения, числа – не менее прочно, чем знание, которое даёт логический разум (…). Первые начала чувствуются, теоремы доказываются. И то и другое достоверно, хотя мы и приходим к этому разными путями».16
Декарт сомневается в реальности первых начал. Интуиция бытия чужда ему, а сердце бесполезно как инструмент познания. Подлинное познание – познание математическое. По мнению Декарта «наука», не основанная на математике, не является наукой.
Согласно Декарту, мы познаём истину посредством метода «ясных и отчётливых идей». Ясные и отчётливые идеи – идеи, математически очевидные. Эти-то идеи и есть материал науки. Все остальные идеи должны быть сведены к ним или исключены. Этот мир совершенно проницаем для нашего человеческого взгляда, поскольку он всего лишь геометрическая протяжённость, целиком подчинённая нашему разуму.
ДУХ И ТЕЛО – ДВА НЕЗАВИСИМЫХ ДРУГ ОТ ДРУГА НАЧАЛА
В отличие от философов средневековья, провозглашавших единство тела и духа, Декарт убеждён, что человек – не единый организм, а два совершенно независимых друг от друга начала: дух и тело.
По мнению Декарта, дух познаёт мир не через тело (чувства), а по наитию. Декарт перестраивает человеческий разум по ангельскому образцу. Ангелы – бестелесные существа. Ангелы познают не чувствами, а посредством врождённых идей, которые они получили от Бога в момент их сотворения. Ангелы познают сотворённое непосредственно, прямо, по наитию. Они не рассуждают, а видят. «Ясные и отчётливые идеи» Декарта, как и ангельские идеи, исходят от Бога, а не от материального мира. По мнению французского философа, человеческий интеллект, как и ангельский, не рассуждает, а сразу видит реальность такой, какая она есть.
Если по Декарту дух не нуждается в теле, то тело, в свою очередь, не нуждается в духе: это машина, которая движется сама собой.
Декарт преувеличивает возможности человеческого духа и принижает достоинство человеческого тела. Он не понимает, что человек – не ангел, а тело человека – не машина: его поддерживает и оживляет дух.
Картезианский человек – не человек. Это ангел или машина. Декарт по сути отец как современного идеализма, так и материализма.
ЧУВСТВА НАС ОБМАНЫВАЮТ
Ошибочно считать, что идеи (понятия) исходят из вещей, – утверждает Декарт. Люди, – говорит он, – склонны верить, что посторонняя вещь запечатлевает в них свой образ, но это только вера, а не доказательство. «Чувства часто нас обманывают», поэтому познание внешних вещей должно осуществляться умом, а не чувствами.
Декарт не понимает, что человек познаёт интеллектом и чувствами одновременно. Только ангел в силах познавать одним интеллектом.
В сфере познания Кант доведёт до конца дело Декарта. Он, грубо говоря, скажет французскому философу: «Ты прав, Рене, когда говоришь, что чувства бесполезны в процессе познания, но ты заблуждаешься, когда утверждаешь, что человек познаёт по наитию. Мыслящий интеллект познаёт лишь мысль о вещи, а вот саму вещь, стоящую за этой мыслью, познать невозможно».
Декарт закрыл традиционный путь познания и открыл новый, но этот новый путь оказался неверным. «Методическое сомнение» Декарта («сомневаюсь, чтобы познать реальность») обернулось у Канта сплошным агностицизмом («я познаю только свою мысль, бытие непостижимо, реальность непознаваема»), а у Гегеля – абсолютным идеализмом («моя мысль и есть бытие, нет смысла искать его вне моей мысли, моя мысль производит реальность»).
Я МЫСЛЮ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, Я СУЩЕСТВУЮ
У меня может не быть тела, – думает Декарт, – оно может быть иллюзией. Но с мыслью дело обстоит иначе: «В то время как я готов мыслить, что всё ложно, необходимо, чтобы я, который это мыслит, был чем-нибудь; заметив, что истина “я мыслю, следовательно, я существую [я есмь]” столь прочна и столь достоверна, что самые причудливые предположения скептиков неспособны её поколебать, я рассудил, что могу без опасения принять её за первый искомый мною принцип философии».17
Согласно Декарту, моё существование доказано тем, что я мыслю. Если бы я перестал мыслить, исчезли бы доказательства моего существования. Следовательно, я существую тогда, и только тогда, когда я мыслю.
Картезианское бытие находится в прямой зависимости от мышления. Если раньше человеческое мышление считалось следствием человеческого бытия («я мыслю, потому что я есмь»), сейчас бытие становится следствием мышления («я есмь, потому что я мыслю»). По словам Канта Декарт совершил «коперниканскую революцию» в сфере философии: если раньше Бог считался центром, сейчас центром считается мыслящий субъект.
Сделав «cogito» («Я мыслю») отправной точкой философии, Декарт начал процесс, в котором запредельное (Бог, Бытие, Благо, Красота) превращается в «продукт» мышления. Своим мышлением человек производит бога – того, что пребывает в его мышлении. Этот бог – он сам!
Перенеся мыслящего субъекта в центр, Декарт отменил Бога, ведь периферийный Бог – не Бог, а продукт человеческого мышления. Формуле Декарта «Cogito, ergo sum… мыслю, следовательно, существую» нужно противопоставить формулу Франца Баадера «Cogitor, ergo sum… меня мыслит Бог, следовательно, я существую». От вечности Бог думал обо мне, и создал меня из ничего. И если я до сих пор существую, это потому что Он не перестаёт думать обо мне и постоянно сохраняет меня в бытии. Если Он перестанет думать обо мне хотя бы на секунду, то я тут же превращусь обратно в ничто. Для немецкого философа конца XVIII века Бог есть центр, мыслящий субъект – периферия. Таков рациональный порядок вещей.
Во времена Декарта философия древних греков и философия европейского средневековья, несомненно, нуждались в обновлении, но вместо этого были полностью уничтожены. До Декарта человек стремился понять своё Богом назначенное место во Вселенной; после Декарта он «творит» в себе свою собственную Вселенную. Декарт стоит у философских истоков миросозерцания, в котором мыслящий субъект есть источник и центр всего сущего.
Bepul matn qismi tugad.