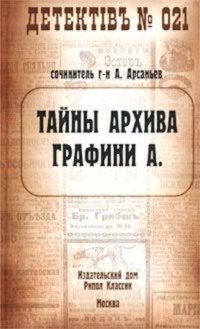Kitobni o'qish: «Тайны архива графини А.»
До недавних пор я считал, что подобные истории происходят только в кино и в старинных романах. Ну, подумайте сами – старинный сундук, найденный на чердаке, полный загадочных бумаг, писем и документов. Просто «Остров сокровищ» какой-то, не хватает только пиратов и «черной метки». И я бы никогда не поверил, что подобное может произойти в реальной жизни, да еще в самом конце двадцатого века, если бы все это не произошло с «вашим покорным слугой», как принято было выражаться лет сто назад. Но начну по порядку…
Моя жизнь сложилась таким образом, что, дожив почти до пятидесяти лет, я, что называется, оказался у разбитого корыта. Позади было несколько неудачных попыток обзавестись семьей, десяток мест работы в разных городах России и ближнего зарубежья, периоды успеха и неудач… А год назад я предпринял последнюю решительную попытку вписаться в современную действительность и, надо сказать, потерпел на этой ниве сокрушительное поражение.
И, проснувшись однажды утром в гостинице одного из краевых центров, за которую не платил уже неделю по причине полного отсутствия денег, понял, что пора подводить черту.
Надо было признаться себе, что потерпел полное фиаско, и после нескольких попыток найти иную трактовку своего тогдашнего положения я вынужден был это сделать.
Кто хоть раз в жизни побывал в подобной ситуации, может представить мое настроение в это «прекрасное» утро, и только врожденное отвращение к самоубийству не позволило мне свести тогда счеты с жизнью.
Но как сказал один мудрый человек, самая темный период ночи наступает именно перед рассветом, и у большей части самоубийц просто не хватает терпения дождаться этого момента.
У меня терпения хватило, а может быть, просто не хватило решимости…
Зазвонил телефон и равнодушный женский голос стал для меня гласом судьбы, поскольку сообщил мне о том, что я унаследовал недвижимость в городе моего детства Саратове, в котором не был много лет и не собирался уже побывать никогда.
Проще говоря, дальняя родственница, а по нынешним временам – практически чужой мне человек, завещала мне свой старый деревянный дом, впрочем, довольно крепкий и уютный.
Я тогда плохо представлял, кем она мне приходится, двоюродной сестрой моего дедушки или внучатой племянницей моей прабабушки… одним словом, седьмая вода на киселе, но это не помешало мне на последние деньги взять билет до Саратова и через неделю «вступить в права владения» домом со всем имеющемся в нем скарбом и даже небольшой суммой, которой мне хватило, чтобы расплатиться с гостиницей и продержаться несколько месяцев, пока не нашлось иного источника для существования.
Первые дни я пребывал в состоянии шока, целыми днями валялся на продавленном кожаном диване и смотрел в потолок. И подобное времяпрепровождение не замедлило сказаться на моем настроении, причем самым лучшим образом: мрачные мысли понемногу оставили утомленный мозг, и нормальные чувства сначала робко, но с каждым днем все настойчивее стали реанимироваться в моей душе. Одним из первых оклемалось любопытство, хотя поначалу в довольно примитивной форме: мне стало интересно, кто лежал на этом диване до меня.
Дом еще не успел одичать, каждый предмет еще хранил следы человеческого присутствия, и с легким чувством неудобства я начал лазить по ящикам и полкам, по крупицам обнаруживая нужную мне информацию.
Имя и фамилия покойной благодетельницы к тому времени были мне, конечно, известны. Я даже побывал на могиле и поставил в церкви свечку за упокой ее души. Но, кроме паспортных данных, не располагал пока никакими иными сведениями о покойной.
То, что мы были родственниками, не вызывало у меня сомнений, но ее имя ни разу не упоминалось при жизни моими родителями. Теперь их уже нет на этом свете, а кроме них – родственников у меня в Саратове практически не осталось.
Поэтому каждый предмет в доме становился для меня молчаливым свидетелем долгой и нелегкой жизни единокровного мне существа, о существовании которого я до сих пор и не подозревал.
В ее альбоме я с удивлением обнаружил собственные фотографии с трогательными дарственными надписями на обороте, написанными маминой рукой. Значит, в то время мои родители еще поддерживали с Тамарой Александровной (так звали мою родственницу) довольно близкие отношения. Но потом, вероятно, какая-то черная кошка пробежала между ними, и отношения были порваны.
Но, тем не менее, «тетя Тамара» до самой смерти хранила фото нашей семьи в отдельном пакетике из черной бумаги и завещала все свое имущество тому самому мальчику в матросском костюмчике, которым я был больше сорока лет тому назад, и которого она, судя по всему, любила.
Отношения в нашей некогда большой семье были всегда непростыми, мама перед смертью мне что-то об этом рассказывала, но в тот момент я настолько был занят собой, своей любимой работой и очередной невестой, что слушал не очень внимательно и почти ничего не запомнил.
И эта тайна, скорее всего, так и останется для меня тайной навсегда.
Аппетит приходит во время еды. И чем больше я узнавал о своей дальней родственнице, тем больше меня интересовала эта загадочная женщина. Путем дедуктивных умозаключений я выяснил степень нашего с нею родства – она оказалась моей двоюродной бабушкой, то есть была сестрой папиной мамы.
Самым тщательным образом изучив содержание альбомов, писем и хранившихся в особой шкатулке драгоценных для тети Тамары вещиц, я пришел к выводу, что мы с ней были очень похожи. Стремление систематизировать и разложить по полочкам всю свою жизнь было моим врожденным свойством и явилось одной из причин моего одиночества. Мои жены никак не желали занимать в жизни то место, что я им предназначал, и покидали меня через два-три «медовых» года.
Любопытство мое не было удовлетворено и наполовину, а в доме не оставалось ни одного предмета, которого бы я не изучил, и ни одной бумажки, которой бы я не прочел от корки до корки.
Во дворе дома был сарай, но он не оправдал моих надежд. Кроме видавшего виды серебряного самовара я не обнаружил там ничего заслуживающего внимания.
Последняя надежда оставалась на чердак.
Отыскав в сарае старую, с поломанными перекладинами лестницу, я привел ее в божеский вид и благодаря этому без особого риска для жизни смог проникнуть в желанное место.
Чердаки и подвалы с детства вызывали у меня пристальный интерес, и рыться в завалах старых вещей – для меня до сих пор истинное наслаждение.
В моем пионерском детстве это компенсировало мне недостаток таинственных приключений, к которым так стремится в этом возрасте душа каждого нормального мальчишки. И мне не раз доставалось от родителей за порванную и перепачканную одежду. Им моя страсть была непонятна, или они делали вид, что забыли свое собственное детство.
Когда мне удалось открыть рассохшуюся и перекошенную дверцу чердака, я вновь испытал то замечательное детское чувство, которое мои родителями называли «зудом приключений». Поскольку до меня сюда не ступала нога человека как минимум лет тридцать.
На всех сваленных в кучу предметах по углам довольно вместительного чердака лежал сантиметровый слой пыли. А веревки вдоль всего помещения, на которых когда-то, видимо, развешивали белье, рассыпались от малейшего прикосновения в труху.
Растягивая удовольствие, я спустился вниз и вернулся на чердак с веником, ведром воды и мокрой тряпкой, собираясь провести здесь весь день и радуясь, что теперь никто не сможет мне помешать – ни родители, ни жены.
В одиночестве есть определенная прелесть. Только наедине с собой человек может понять, что он собою представляет, каковы его истинные наклонности и желания. У меня был приятель, который крепко закладывал за воротник и по этой самой причине расстался со своей дражайшей супругой. Но тут же бросил это занятие, когда остался один.
– Ты понимаешь, оказалось, что мои пьянки были своеобразным «праздником непослушания», – объяснял он внезапную перемену образа жизни. – Я таким образом отстаивал свое право на собственный стиль поведения, это было способом защиты… А теперь мне не от кого защищаться.
Впрочем, я отвлекся.
Мой дом был очень старым. На одной из его стен я обнаружил еле заметную деревянную табличку, выпиленную в форме герба, на которой были вырезаны цифры – 1867. Стало быть, дом был построен почти сто пятьдесят лет назад.
И все эти годы проживавшие в нем люди закидывали на чердак вещи, применения которым уже не могли найти, а выкидывать не решались.
Хозяев у дома за полтора века было несколько. Дом продавали и передавали по наследству. И чердак, как старый скряга, хранил все эти древние предметы, укутывая их от нескромного взгляда толстым слоем пыли.
Может быть, археология потеряла в моем лице достойного представителя, но та история, которую нам преподавали в школе, была настолько скучной и бездарной, что у меня даже не возникало подобной мысли в том возрасте, когда принято выбирать свою будущую профессию.
Но теперь, смахивая пыль с предметов, я напоминал себе археолога, и мое сердце громко билось в предчувствии уникальной находки.
И предчувствие меня не обмануло.
На чердаке было много любопытных вещей: давно вышедшей из употребления домашней утвари, старой мебели и прочего, но я не стану утомлять вас подробным их описанием, а сразу же перейду к самой главной для меня находке, которая изменила мою жизнь и заставила взяться за перо.
В дальнем углу чердака под грудой поломанных стульев и вылинявших абажюров стоял тяжелый даже на вид старинный кованый сундук. Я сразу же обратил на него внимание, поскольку он явно был старше всех остальных чердачных вещей по крайней мере на полвека, и оставил его «на сладкое», то есть приступил к изучению его содержимого в последнюю очередь.
И эта последняя находка заставила меня позабыть про все остальные, благодаря чему они до сих пор лежат на чердаке, сваленные у выхода, и неизвестно, когда я удосужусь перетащить всю эту кучу в дом, как собирался вначале.
В сундуке были бумаги. Старые, пожелтевшие, но почти не пострадавшие от времени. Я поначалу принял их за документы тети Тамары, но прочитав дату на первом же из писем, моментально понял свою ошибку, потому что она относилась к середине девятнадцатого века, то есть на добрые семьдесят лет раньше, чем появилась на свет моя двоюродная бабушка.
К тому времени на чердаке было уже темновато, а когда мне удалось с помощью веревок, рискуя сломать шею, спустить свои сокровища на землю, солнце уже почти спряталось за горизонт.
Я взмок от непривычно тяжелой физической работы, кожа чесалась от вековой пыли, но мне было не до этого, и едва сполоснув лицо и руки теплой водой, с головой зарылся в найденные мною бумаги.
Наверное, нужно объяснить, что же до такой степени заинтересовало меня, что, забыв про сон, я просидел подобно скупому рыцарю перед сундуком почти до утра.
Во-первых, меня действительно привлекает история, но, скорее всего, я вел бы себя значительно спокойнее, если бы не фамилия автора писем и дневников. Это была моя фамилия, фамилия моего отца, то есть фамилия моего рода. И значит, все эти бумаги принадлежали какой-то моей родственнице, родившейся еще при Пушкине.
Признаюсь, что, как и большинство моих сверстников, до той поры практически ничего не знал о своих предках дальше бабушки с дедушкой, да и то лишь по материнской линии.
А теперь у меня появилась возможность проследить свои корни аж до XVIII века, а это по нынешним временам – невероятная удача.
А когда я понял, чем занималась сто пятьдесят лет назад моя родственница – я не поверил своим глазам.
Не буду вас дальше интриговать и сообщу сразу – ОНА БЫЛА СЫЩИКОМ.
Не торопитесь скептически улыбаться и упрекать автора этих строк в исторической некомпетентности – мне прекрасно известно, что в те благословенные времена сыщиков-женщин в России не было. Профессиональных – не было. Согласен. Но моя пра-пра-пратетушка занималась этим «из любви к искусству». И как вы сможете узнать, если дочитаете эту повесть до конца, – не без успеха.
Более того, она самым подробным образом описывала каждое свое расследование, а в конце жизни, то есть за несколько лет до революции, решила стать писательницей в только зарождавшемся тогда в России жанре криминального романа, или как теперь принято говорить – детектива.
Но она не смогла реализовать своих планов, потому что ушла из жизни, так и не решившись положить ни одну из своих рукописей на стол редактора.
Целый месяц ушел у меня на то, чтобы разобраться с ее бумагами, в результате чего мой дом превратился в дом-музей моей далекой по времени, но ставшей мне теперь бесконечно дорогой и близкой родственницы, причем музей литературный. По всему дому у меня лежали романы и повести, дневники и письма, и в один прекрасный момент я понял, что не имею никакого права владеть этим богатством единолично и не поделиться им с людьми.
И я решился на невероятный для себя поступок – закончить то, что не удалось в свое время… пора назвать ее имя.
Ее звали Катенькой Арсаньевой. И она родилась в 1830 году…
Вот и все, что мне хотелось сообщить читателю перед тем, как он окунется в события середины прошлого века. Я постарался закончить неоконченные повести, отредактировав и дополнив их с помощью писем и дневников, и в таком виде решился вынести на суд читателя.
Автор и главное действующее лицо этих произведений владела несколькими иностранными языками, и страницы, к моему ужасу, пестрели французскими, английскими и немецкими афоризмами, а порой она просто переходила на один из этих языков. Щадя читателя, я постарался перевести все это на русский, хотя и понимал, что после подобной «операции» из повествования исчез бесподобный аромат прошлого века. Так что не обессудьте.
Все остальное о моей родственнице и о ее жизни вы найдете на этих страницах. Единственное, что мне хотелось бы добавить… Наверное, я должен это сделать, поскольку считаю себя честным человеком, и не хотел бы никого вводить в заблуждение.
Я не всегда уверен, что из событий, описанных моей родственницей, случилось с нею на самом деле, а что она добавила к ним в качестве литературного украшения. Время от времени я буду возникать по мере повествования на страницах этой и последующих книг. Я оставил за собой это право, и прошу меня за это не винить.
Поэтому не прощаюсь.
Александр Арсаньев
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Ранней весной 1857 года мне исполнилось 27 лет.
Я казалась тогда себе совершенно взрослой, умудренной опытом женщиной, может быть, еще и потому, что прошлой осенью похоронила своего мужа – старшего следователя губернской уголовной полиции, человека во всех отношениях замечательного и горячо мною любимого.
Мы прожили с ним немногим больше четырех лет, и эти годы я вспоминаю как самые счастливые в своей долгой жизни. Может быть, именно поэтому я так и не решилась вступить в брак вторично, хотя мне неоднократно предлагали руку и сердце весьма достойные и безусловно заслуживающие того господа.
Таким образом в свои неполные двадцать шесть лет я оказалась совершенно самостоятельной и достаточно обеспеченной молодой вдовой, тем более что и мои родители к тому времени уже восемь лет как лежали в могиле. Очередная эпидемия холеры 1848 года не пощадила их жизни, сделав меня сиротой в неполные восемнадцать лет.
Холера в те годы была частым гостем в Саратове, и стихи безвременно ушедшего незадолго до описываемых здесь событий из жизни Михаила Лермонтова, с которым моя семья находилась в довольно близком родстве, я помнила наизусть с детских лет:
«Чума явилась в наш предел;
Хоть страхом сердце стеснено,
Из миллиона мертвых тел
Мне будет дорого одно».
Отец рассказывал мне, что эти строки, будучи еще совсем молоденьким, Лермонтов написал после очередного приезда в Саратов в 1830 году.
Мне в то время было несколько месяцев, но по семейному преданию шестнадцатилетний Мишель носил меня на руках и называл своей будущей невестой. Не думаю, что это было на самом деле, но иногда и теперь рассказываю об этом своим знакомым, чтобы показать, какая я старая.
Мой отец был человеком просвещенным, закончил Дерптский университет и, как только в Саратове открылась первая женская школа, не замедлил отдать меня в это замечательное заведение при Крестовоздвиженском монастыре, для чего и переехал со всей семьей в губернский центр, хотя до этого мы жили в Саратове только зимой, а большую часть года с ранней весны до поздней осени проводили в своем поместье в Хвалынском уезде.
Таким образом я стала одной из первых в Саратове «школярок», хотя многочисленные наши родственники и не одобряли подобной эмансипации.
Учение давалось мне легко, у моего отца была богатая по тем временам библиотека, и я считалась развитой не по годам.
Кто знает, родись я на пару десятков лет позже, может быть, и пошла бы в науку и стала второй Софьей Ковалевской, но в те годы ничего подобного нельзя было себе и представить. Времена женского просвещения были еще впереди.
Но мое образование позволило мне после смерти родителей не попасть в зависимость от опекунов и родственников, разобраться в финансовых тонкостях ведения хозяйства и вполне успешно контролировать деятельность приказчиков в поместье.
Александр Христофорович, мой покойный муж, очень гордился своей «просвещенной женкой» и даже советовался со мной по служебным вопросам. Благодаря этому к моменту его безвременной кончины я неплохо разбиралась в юриспруденции и сыскном деле.
Его многочисленные товарищи по службе – частые гости в нашем доме – еще долгие годы оставались моими хорошими знакомыми и при необходимости оказывали мне по старой памяти некоторые услуги. Но об этом чуть позже…
Итак, история, которую я собираюсь вам поведать, произошла ранней весной 1857 года. Я еще носила траур и не могла смириться со смертью любимого мужа, хотя время уже поработало над моими душевными ранами, и я понемногу стала выходить из дома и даже принимать у себя гостей, большей частью – своих замужних подруг и родственниц.
Визиты эти носили преимущественно траурный характер и не столько развлекали меня, сколько бередили еще не зажившие душевные раны, и мне захотелось сменить обстановку и на некоторое время уехать из Саратова. Хотя бы к себе в поместье. Тем более что некоторые хозяйственные вопросы требовали моего там присутствия.
Состояние мое, и без того достаточное, благодаря наследству мужа еще более увеличилось, и неожиданно для себя я оказалась одной из самых состоятельных женщин во всей губернии. И многие досужие господа уже задумывались, каким образом побыстрее прибрать к рукам столь лакомый кусочек. И это послужило еще одной причиной моего отъезда. Любая мысль о мужчинах казалась мне в это время кощунственной, да и большинство потенциальных претендентов на мою руку и кошелек не выдерживали никакого сравнения с покойным Александром.
Шурочка, моя старинная подруга со школьных лет, всячески рекомендовала мне съездить за границу, и я бы, наверное, так и поступила, если бы мы с Александром не собирались совершить этот вояж вместе. Зимними вечерами с атласом в руках мы засиживались с ним до ночи, разрабатывая в деталях предстоящий маршрут. Александр бывал в Европе в студенческие годы и собирался показать мне все то, что произвело на него в юности неизгладимое впечатление и сделало его «неисправимым западником», как считала вся моя родня.
Он действительно восхищался просвещенной Европой, и у нас в доме царил европейский дух. И не только в оформлении гостиной и в обращении с прислугой. Мы выписывали из-за границы все литературные новинки, и благодаря прекрасному знанию языков познакомились со многими английскими и французскими романами задолго до того, как они были переведены на русский язык и получили широкую известность.
И теперь путешествие без него казалось мне своеобразной изменой его памяти.
– Как это глупо, – закатывала Шурочка глаза, призывая Силы Небесные себе в свидетели. – Ну что за предрассудки. Ты же прекрасно понимаешь, что Александр был бы на моей стороне. Ты молода, красива, умна… В конце концов, это необходимо для твоего здоровья.
Она почему-то вбила себе в голову, что у меня слабая грудь и непрестанно мне об этом напоминала.
– Ну что ты забыла в своей деревне? – возмущалась она. – Ты что, заживо собралась себя похоронить?
Когда она волновалась, она переходила на французский, в эти минуты ей явно не хватало слов в родном языке.
Но я твердо решила не покидать России еще пару лет, и не собиралась изменять своего решения, несмотря на все ее уговоры. Тем более что в прошлом году из-за неурожая и саранчи понесла большие убытки, а путешествие в Европу потребовало бы немалых затрат.
Я знала, чем успокоить свою лучшую подругу, и послала горничную в булочную за пирожными.
Кофе с пирожными примирил Сашеньку с моим решением, а новый роман г. Тургенева «Рудин», который я дала ей почитать, окончательно привел в чудесное расположение духа. Сашенька была в восторге от его «Записок охотника» и, по-моему, была влюблена в самого автора.
Кроме всего прочего у меня была еще одна причина отправиться в деревню, в которой я не признавалась самой себе и не могла поделиться даже с лучшей подругой. Но эта причина была, пожалуй, не менее важной, чем все вышеназванные.
Чтобы вам было понятно, о чем я говорю, необходимо упомянуть о некоторых обстоятельствах гибели моего мужа.
Официальная версия гласила, что он скончался в результате внезапной горячки на одном из захолустных постоялых дворов, но я никак не могла смириться с такой нелепой смертью и отказывалась верить очевидному.
Александр отличался несокрушимым здоровьем и за два дня до смерти, прощаясь со мной, выглядел просто прекрасно. Он был на двенадцать лет старше меня, но у него не было ни одного седого волоса, а в руках была такая сила, что ему ничего не стоило разогнуть подкову. За все время нашей совместной жизни я не могла припомнить у него ни малейшего недомогания и даже не могла представить его больным.
Однажды он на спор выкупался в ледяной купели без каких бы то ни было последствий для организма.
Постоялый двор, ставший его последним пристанищем, находился неподалеку от моей деревни, и мне хотелось побывать там еще в прошлом году. Меня не оставляла мысль, что там я смогу узнать что-то такое, на что не обратили внимания ни полицмейстер, ни Карл Иванович, наш добрый, но рассеянный доктор. И что прольет свет на истинную причину смерти Александра.
Но сразу после похорон этого сделать не удалось, а потом наступила зима, и добраться до дальней волости стало нелегко.
Я уже тогда решила, что осуществлю свой замысел при первой возможности, лишь только растает снег. Но паводок в этом году был такой высокий, что добраться по нашему бездорожью куда бы то ни было не было никакой возможности. И вот, наконец, дороги подсохли, и теперь ничто не мешало мне отправиться в путь.
Отъезд я наметила на последнюю неделю Великого Поста, а начала готовиться к нему едва ли не за месяц до этого.
В тот день, когда мы беседовали с Шурочкой, у меня уже все было готово к отъезду…
До сих пор не могу привыкнуть, что теперь, на старости лет живу, в двадцатом веке. И это не удивительно. Семьдесят лет и девять месяцев я привыкла считать себя жителем века девятнадцатого и это навсегда останется для меня непреодолимым барьером. Наверное, я и умру с этим ощущением, поскольку все самые главные события в моей жизни остались в моем прекрасном и чудовищном, милом и отвратительном девятнадцатом столетии. А век двадцатый мне так же чужд, как и я ему.
Но те события, которые я сейчас вспоминаю, происходили в те далекие времена, когда девятнадцатое столетие едва перевалило за середину, и в те времена я, как и большинство моих современников, и не предполагала, что доживу до нового века, да еще буду в состоянии что-то вспоминать и описывать.
Если мне не изменяет память, я в те годы с трудом представляла себя пятидесятилетней, что же говорить о семидесяти с хвостиком. Для меня тогда женщина за тридцать была уже едва ли не пожилой, а в моем теперешнем возрасте…
Впрочем, я отвлеклась.
Утро, на которое был назначен мой отъезд в деревню, выдалось на удивление теплым и солнечным. Впервые за этот год я почувствовала некоторый дискомфорт от своего траурного одеяния. Почти девять месяцев я не позволяла себе никакого другого платья, а в это утро поймала себя на желании вместе с пробуждающейся после зимы природой скинуть с себя этот мрачный наряд и преобразиться душой и телом.
Устыдившись собственных мыслей, я стала проверять, правильно ли прислуга уложила сундуки и коробки, и сделала выговор горничной по той единственной причине, что она стояла с глупым видом посреди улицы с прилипшей к нижней губе шелухой подсолнечника.
– Звиняйте, барыня, – смутилась недавно взятая мной из деревни Алена и утерлась подолом с таким виноватым видом, что мне стало жаль ее. Тем более что все вещи оказались на своем месте, и придраться было совершенно не к чему.
Несмотря на некоторую внешнюю неотесанность, Алена была девкой неглупой, и в руках у нее все горело в хорошем смысле этого слова. И я спокойно оставляла на нее дом, зная, что без меня она будет поддерживать в нем порядок и не позволит себе ничего лишнего. Такова была и ее покойная матушка, с юности состоявшая при кухне в нашем деревенском доме, работящая и приветливая, но на вид – дура дурой, прости Господи.
Путь мне предстоял неблизкий, двести с лишним верст по тогдашним дорогам могли вымотать душу из любого, и век двадцатый, по моим наблюдениям, мало что изменил в этом отношении.
Думаю, что дороги и дураки еще долго будут оставаться проблемой для нашей благословенной державы.
Не могу не отметить удивительной проницательности своей старинной родственницы. В этом отношении, как и во многих других, она оказалась абсолютно права. И это свидетельствует о том, что она была женщиной неординарной, в чем вы еще не раз сможете убедиться в дальнейшем.
Но, несмотря ни на что, настроение у меня было приподнятым, как обычно, когда мне предстояло отправиться в путешествие.
К тому же я могла себе позволить роскошь иметь добротный экипаж английской работы, а мой кучер Степан был удивительно аккуратным. Благодаря этому его качеству большая часть колдобин на дороге не доставляла мне никакого беспокойства.
И это при том, что вида он был совершенно разбойничьего – косая сажень в плечах и густая рыжая бородища. И это тоже было мне на руку, так как лихих людишек в окрестностях Саратова было тогда в избытке. Беглые крепостные, каторжники и прочий сброд с сомнением чесали бороды, едва приметив его на облучке, а когда он щелкал собственноручно сплетенным им длинным кнутом, всякие сомнения по его поводу пропадали у них окончательно, и они торопились укрыться в тени деревьев.
Кроме того, у меня в карете была пара заряженных кавказских пистолетов с вороненым стволом и рукояткой слоновой кости. Мы с покойным мужем частенько посещали тир, и я не уступала ему в точности стрельбы по мишеням. Поэтому, в отличие от большинства женщин того времени, я не брала с собой в дорогу специальных людей для охраны.
Кому-то это покажется смешным, но Александр обучил меня и некоторым приемам английского бокса и французской борьбы, на что моя родня тут же распустила слух, что он собирается сделать из меня вторую «кавалерист-девицу», тем более что мои тетушки неоднократно видели меня в мужском седле.
Я никогда не признавала женского седла и прекрасно чувствовала себя на псовой охоте в жокейском платье с убранными под шапочку волосами.
Вместо стека я использовала казацкую плетку, и одно это уже заставляло их морщить свои старушечьи носики.
Они никак не могли взять в толк, почему такие исконно женские развлечения, как вышивание и домоводство, не могут удовлетворить мою грешную душу, и надеялись, что рождение ребенка образумит меня.
Но Бог не дал нам детей, и Александру так и не удалось испытать счастья отцовства, хотя до самой его смерти мы не теряли надежды, что в конце концов у нас будет хотя бы один ребенок, непременно мальчик, которого мы воспитаем настоящим мужчиной и джентльменом.
Нет, я никогда не была синим чулком, и даже недоброжелатель не мог бы назвать меня мужиковатой. Боже сохрани. Не меньше стрельбы и верховой езды меня привлекали музицирование и рукоделие, я неплохо танцевала и умела обращаться с карандашом.
Кстати, о карандаше. Может быть, я не объективен, но слова «умела обращаться с карандашом» кажутся мне слишком скромным обозначением того дара, которым явно обладала автор и главное действующее лицо нашего повествования. Не знаю, входило ли в ее планы иллюстрировать свои романы, но я по мере возможности, если вы успели заметить, попытался сохранить и эту часть творческого наследия своей родственницы в качестве иллюстративного материала к ее прозе. Тем более что иногда ее зарисовки имеют самое непосредственное отношение к тому или иному расследованию, и – если хотите – составляют часть ее «метода».
Поэтому если кого-то и шокировали мои неженские увлечения, то лишь потому, что в то время «эмансипация» еще не была переведена на русский язык и означала исключительно европейское явление. Во всяком случае в Саратове, провинциальном и маленьком в те далекие годы.
Я надеялась, что к вечеру следующего дня мое путешествие закончится, если не произойдет ничего непредвиденного. Хотя в мои планы входило посетить кое-кого из родственников и знакомых еще по пути в деревню, поэтому конечного пункта я могла достичь и через неделю. Все зависело от гостеприимства моих соседей и волеизъявления той загадочной особы, которую мы традиционно именуем судьбой.
Перекрестившись, я уселась в карету и велела Степану трогать.
Через какие-нибудь полчаса убогие домишки саратовских окраин остались позади, и, оглянувшись, я в последний раз посмотрела на голубые купола церквей.
Сразу же за городом на невысоких холмах начинались ветряные мельницы, принадлежавшие богатым саратовским купцам и украшавшие и без того чудесный пейзаж. Синяя спокойная гладь великой русской реки, живописный издалека Саратов – все настраивало меня на возвышенный лад, а мельницы, как обычно, вызвали в памяти Дон Кихота Ламанчского и его верного оруженосца Санчо Пансу. Мне вспомнились наши с мужем верховые прогулки по этим местам, и слезы невольно навернулась мне на глаза.
Мы проезжали мимо живописного мужского монастыря и мерный звон утреннего колокола на его колокольне вторил моей печали.
Чтобы отвлечься от грустных мыслей, я достала свою записную книжку и открыла в ней тот листок, где набросала для памяти предполагаемый маршрут своего путешествия.