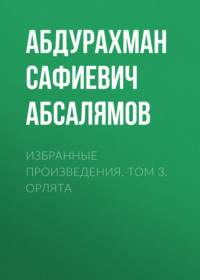Kitobni o'qish: «Избранные произведения. Том 3»
© Татарское книжное издательство, 2013
* * *

Часть первая
1
– Нинди матур!.. Какая прелесть! – удивлённо прошептала Ляля.
Десятиклассница Ляля Халидова, маленькая девушка с чёрными как смоль волосами и такими же чёрными, но очень ясными, чуть продолговатыми глазами, обладала особым даром видеть яркое и необычное в повседневном. Так было и сегодня. Школа, к которой Ляля давно, казалось бы, привыкла, непримечательное здание с заурядными на улицу балконами, открылась ей в этот снежный с морозцем февральский день ошеломляюще по-новому. И хотя Ляля помнила, что ей надо спешить, что она уже немного запаздывает на репетицию, она не могла не остановиться. Закатное солнце переливалось в окнах и нежно розовело на кирпичных стенах школы таким струящимся жаром, что на миг это хорошо знакомое здание, в дымке косых лучей, представилось Ляле сказочным дворцом, высеченным из огромного драгоценного камня – джаухар.
– Какая прелесть!.. Нинди матур!.. Какая прелесть! – вперемежку то по-русски, то по-татарски повторяла девушка и вдруг, приподнявшись на носки, медленно кружась, как бы поплыла в воздухе.
Ляля Халидова заканчивала десятилетку, но по свойственной ей непосредственности чувств и живости манер (друзья недаром прозвали её «джиль-кызы» – дочь ветра) она, пожалуй, недалеко ушла от иной резвушки пятиклассницы.
Сильным рывком открыв тяжёлые двустворчатые двери и на ходу высвобождая одной рукой голову из платка-паутинки, а другой расстёгивая пальто, она заторопилась к раздевалке.
Уже в вестибюле Лялю охватил предпраздничный гул; он докатывался сюда из широких коридоров, напоминая возбуждённое гудение пчелиного роя, отправляющегося в самостоятельную жизнь.
На лестнице Ляля нагнала женщину с толстой сумкой через плечо.
– Откуда телеграмма, апа? С фронта есть? – спросила Ляля с ноткой нетерпения.
– Есть, есть, милая, – сочувственно улыбнулась почтальонша.
Был канун двадцать третьего февраля 1940 года, и она знала, что, по давно заведённой традиции, школа ежегодно приурочивала ко Дню Красной Армии свой праздник с самодеятельным спектаклем, постановка которого, по той же неписаной традиции, возлагалась на лучший из выпускных, десятых, классов. На вечер обычно приглашались бывшие выпускники.
За последние дни телеграммы в школу шли из Москвы и Ленинграда, из Киева и Барановичей, из Одессы и Владивостока. Товарищи, лишённые возможности лично участвовать в празднике, просили извинить их и заверяли, что, где бы они ни находились, они с благодарным чувством вспомнят школу и своих учителей.
Хотя вечер был назначен на завтра, бывшие ученики – солидные люди, съехавшиеся из разных городов и районов, – уже сегодня заполняли школьные коридоры и залы с пальмами и разлапыми филодендронами и, на удивление младшим школьникам, ходили из класса в класс, перебрасываясь весёлыми, но малопонятными замечаниями, искали только им знакомые отметины на партах, подоконниках, на краях классных досок и на учительском столе, а найдя, показывали друг другу с видимым удовольствием. Иные замирали у окон, мечтательно глядя вдаль. Были и такие, которые присаживались за парты и сидели со смущённым видом, точно они не выучили урока, и тогда уже заразительно, неуёмно смеялись малыши.
С лестничной площадки Ляля крикнула кому-то на третьем этаже:
– Хаджар, наши все пришли?
– Ждём тебя и Галима, – послышался сверху певучий девичий голос.
Гости собрались в кружок. Директор школы Курбан-абы не то рассказывал, не то объяснял что-то с нарастающей горячностью. Замедлив шаг (теперь она могла не торопиться: ещё нет Галима Урманова, а без него не начнут репетиции – у Галима главная роль), Ляля прислушалась к неясно долетавшим до неё словам Курбана-абы, но уже по тому, как все поглядывали на окаймлённый красным и чёрным шёлком портрет, она поняла, что речь идёт об этом чернобровом, с узким лицом юноше, глядевшем со стены спокойно и решительно, – о прославленном Анваре Шакирове.
Ляля представила себе бой на Заозёрной, когда из строя вышли все товарищи Анвара и он остался в окопе, израненный, один против многих самураев, которые решили взять его обязательно живым. Но это было совсем не так просто, как думалось этим негодяям. Анвар не сдавался.
Теряя кровь, он всё стрелял и стрелял из своего пулемёта, стрелял, пока не кончились патроны. Что же теперь делать Анвару? Но он и тут нашёл выход. Всякий раз, когда Ляля слышит этот рассказ, ей трудно понять, как удавалось Анвару на лету перехватывать гранаты и бросать их обратно в японцев. «Боюсь, у меня не хватило бы ни ловкости, ни мужества», – старалась Ляля поставить себя на место Шакирова… Вот японцы с криками «банзай» окружают его. Как страшно!.. Но нет, борьба не кончена! У Анвара осталась последняя граната… Молниеносный бросок. Анвар погиб, но нашли свою смерть и самураи.
Ляля не однажды слышала этот рассказ, и каждый раз сердце её содрогалось с новой силой. Стоя перед портретом Анвара, она силилась прочесть тайну подвига в строгих чертах его лица. «Да, Анвар – человек исключительно сильной души. Но давно ли он сидел за такой же партой, как я, давно ли его обучали те же учителя, что и меня? Он дышал воздухом этих просторных коридоров и так же, как вон те малыши, бегал с красным галстуком на шее вокруг неизменно зелёных пальм».
И девушка проверяла себя без снисхождения, один на один со своей совестью, – если бы ей пришлось совершить такое, смогла бы она?.. «Честно говоря, не знаю, – думала Ляля, всё более проникаясь захватывающей душу мечтой о подвиге. – Но как хочется быть такой, как Анвар!..»
В последние дни школа жила подготовкой к традиционному празднику.
Подобрать пьесу для спектакля десятиклассникам было не так-то легко. В городской библиотеке ничего подходящего на татарском языке не оказалось. Старосте класса Ляле Халидовой сунули там кипу залежалых книжонок, где шла речь о чём угодно – о любви, о падчерицах, о цветах, даже о леших, но только не о настоящей жизни. Девушке стало обидно за потерянное время: «Возьмите обратно это старьё, нам с ним нечего делать», – и она вернула весь ворох немолодой библиотекарше, вспыхнувшей, будто от личного оскорбления.
Поиски пьесы затягивались. Когда времени оставалось уже в обрез, нечаянно, как это бывает в горячих спорах между очень молодыми и близкими по духу людьми, все сошлись на одной мысли: воплотить на сцене подвиг, подобный подвигу Анвара Шакирова, которого эти юноши и девушки считали своим ровесником, лишь более сильным и достойным, чем они.
Написать такую пьесу для школьного спектакля вызвался автор чуть ли не всех стихов классной стенгазеты Наиль Яруллин, кудрявый, рыжеватый и скуластый юноша в очках, за которыми поблёскивали живые, с насмешливой искоркой глаза. И действительно, он выручил класс.
Пьеса в трёх действиях и пяти картинах под названием «Золотая Звезда» была написана им за неделю и, после перекрёстного «обстрела», принята, правда, не без некоторых дополнений и изменений, сделанных тут же сообща. На радостях автора чуть не закачали.
Всё шло хорошо, пока в город не приехал мастер по шахматам. Он давал в Казани сеанс одновременной игры. Едва заканчивались уроки, Галим Урманов, лучший спортсмен школы и заядлый шахматист, мчался то во Дворец культуры, то в Дом учёных, то в заводской клуб. Он ухитрялся играть почти всюду, где выступал мастер. Остальное делал второпях, лишь бы отделаться. Как раз в эти кипучие дни на Галима Урманова и возложили двойную задачу: сыграть одну из главных ролей в школьной постановке и подготовить, как лучшему спортсмену школы, к общегородским соревнованиям в честь двадцать второй годовщины Красной Армии команду из восьми человек.
Близился день соревнований, а Галим ещё не приступал всерьёз к занятиям с командой. Секретарь комсомольского комитета предупредил Урманова, что если он по-настоящему не возьмётся за работу, команда может провалиться. Галим кое-как провёл несколько тренировок, но все видели, что душа его не здесь. На поверочных занятиях носилки складывались медленно, надевание противогазов отнимало времени больше положенного, с тушением зажигательных бомб дело обстояло ещё хуже. Комитет снял Галима Урманова и назначил капитаном команды комсорга десятого класса Хафиза Гайнуллина.
Галим тяжело перенёс обиду, однако в соревнованиях участвовал, и его личные показатели были лучше, чем у остальных. Ему простили прежнюю нерадивость.
Но когда Галим Урманов, не явившись на репетицию, поставил под угрозу спектакль, взбудоражился весь класс.
– Возмутительно! Мы ждём Урманова, волнуемся, а он разыгрывает очередную партию, – даже не успев закрыть за собой дверь, поторопился сообщить посланный на розыски Галима вихрастый юноша.
Ляля, вот уже целых три часа вместе со всеми ожидавшая Урманова, даже привскочила.
– Неужели он не знал, что сегодня генеральная репетиция?
Тонкая девушка с жидкими светлыми волосами, не поднимая головы от пожелтевших страниц истрёпанного романа без начала и конца, съязвила:
– Нужен ему наш спектакль! Он собирается стать чемпионом мира, победить Алёхина!
Даже обычно спокойный Наиль и тот не выдержал: меряя паркет не по росту большими шагами и беспрестанно поправляя очки, он негромко повторял:
– Стыд и позор! Стыд и позор! Как взглянем в глаза товарищам? Ведь если провалим спектакль, это ляжет пятном не только на нас – на всю школу…
Больше других, несмотря на внешнюю сдержанность, волновалась Мунира Ильдарская. У неё тоже была одна из главных ролей.
Она стояла вполоборота к своим товарищам у маленького столика, высокая, стройная, в коричневом платье, с пионерским галстуком на шее, и одной рукой легонько вертела большой глобус, а в другой держала полевую сумку из жёлтой кожи. Каштановые волосы двумя длинными косами падали на спину. Мунира быстро повернулась.
– Не пойму, как мог он так непростительно подвести класс! – Она нервно покусывала то верхнюю, то нижнюю губу.
– Ну, а ты что молчишь, товарищ комсорг? – налетела на Хафиза Гайнуллина Ляля Халидова. – Как можешь ты сидеть спокойно? Уж не собираешься ли взять под защиту своего друга?
Хафиз поднял серьёзные серые глаза на маленькую, напоминающую сейчас драчливого взъерошенного воробья Лялю и улыбнулся, показав два ряда широких, ровных зубов.
– Что же прикажешь делать? Уж не рисовать ли чёртиков на доске, подобно Наилю?
Наиль с досадой швырнул мел и, отойдя к открытой форточке, подставил разгорячённое лицо под струю свежего зимнего воздуха.
Мунира взглянула на ручные часики.
– Больше я не могу ждать. Опаздываю на пионерский сбор.
Муниру никто не удерживал. Она пробежала лестницу быстрыми шелестящими шажками с дробным перестуком каблучков на площадках и вдруг увидела Галима. Он что-то напевал вполголоса, держа портфель с подчёркнутым шиком – за самый угол.
– Галим! – вырвалось у неё.
Урманов взглянул на девушку чересчур весёлыми, озорно посверкивающими, широко расставленными карими глазами.
– Почему ты не явился на репетицию? – спросила она холодно.
– Как это не явился? Уж не принимаешь ли ты меня за тень отца Гамлета? – беспечно пошутил Галим.
На его смуглом подвижном лице скользнула ещё больше раздражившая Муниру улыбка нескрываемого довольства собственным остроумным замечанием.
– Балагурством ты не отделаешься. Разве ты не знал, когда мы условились собраться?
– Значит, были дела поважнее.
– Это не по-комсомольски, Галим! Ты совершенно не желаешь считаться с коллективом…
– У меня нет никакого желания выслушивать твои нотации, – заносчиво прервал юноша Муниру.
Кто, собственно, дал ей право так разговаривать с ним? Как-никак он, Урманов, единственный победитель московского мастера, давшего на прощанье сеанс одновременной игры на двадцати досках. Он провёл в сегодняшней партии такую сильную и оригинальную комбинацию ферзем, что после тридцатого хода приезжий сдался.
«О, вы далеко пойдёте, юноша!» – сказал мастер, пожимая Урманову руку. И Галим почувствовал себя поднятым на недосягаемую высоту, откуда и взирал сейчас на побледневшую от обиды Муниру.
«Проглотить обиду – всё равно что проглотить гору». И Мунира тяжело задышала.
– Мальчишка!.. Мы поставим о тебе вопрос на комитете, – выпалила она и, почувствовав, что сгоряча взяла на себя слишком много, бегом пустилась обратно.
Урманов устремился было за девушкой, но на площадке третьего этажа внезапно замер. В самом центре номера свежей стенной газеты красовался он, Галим, в виде изогнувшегося вопросительным знаком шахматного коня.
Крупной вязью под рисунком было выведено: «Так вот где таилась погибель моя!»
Стиснув до боли кулаки, стоял Галим перед карикатурой, колючкой впившейся ему в душу. Впервые он был выставлен на осмеяние. Чувство превосходства, которым он только что сладко тешился, улетучилось, как дым. Теряя власть над собой, он зашептал:
– Ах, так! Хорошо же! Вы ещё пожалеете об этом… ещё попросите меня… – и, словно кто гнался за ним, бросился вон из школы.
Хафиз Гайнуллин шёл прямо по мостовой. В этот тихий зимний вечер, под низким белёсо-серым небом, освещённые улицы выглядели особенно уютно, мягче обычного гудели автомобильные сигналы, мелодичней позванивали трамваи. Чтобы развеять смуту на душе после сегодняшнего провала репетиции, Хафиз, любивший много ходить, дал хорошего крюку, прежде чем оказался на правой стороне занесённого снегом Кабана1.
Хафиз был частым гостем в скромной, выходившей окнами на озеро квартире Урмановых. Знакомые места! Как любили они с Галимом гонять голубей вот на этом дворе, носясь по крышам дровяных сараев. Клетки до сих пор ещё стоят на старом месте. Всегда аккуратно закрытая на железную цепь – чтобы ветер не сорвал – калитка, тёмная лестница, кнопка самодельного электрического звонка, который они мастерили ещё восьмиклассниками, – всё здесь хорошо знакомо Хафизу с детских лет.
Дверь открыла мать Галима, тихая женщина с мягким, усталым лицом.
– Здравствуйте, Саджида-апа. Галим дома?
– Дома, дома, Хафиз-улым, только не в себе он что-то. Нездоровится, что ли. Спрашивала – не признаётся.
Услышав голос Хафиза, лежавший на кровати лицом к стене Галим медленно, нехотя поднялся.
«Какой он отчуждённый», – подумал Хафиз, сразу заметив и растрёпанную прядь волос на бугристом лбу, и спавшие щёки, и набежавшие на широкое переносье морщинки, и то, как помрачнели большие, обычно пытливо-пристальные глаза друга.
– Пришёл на комитет вызывать?
Хафиз мирно улыбнулся: – Можно присесть? – садясь, он подвинул стул и Галиму. – Ну, как прошла партия? – спросил он, будто ничего не произошло.
Но Галиму показалось, что Хафиз издевается.
– Это моё личное дело.
– С каких это пор у тебя завелись личные дела? – как можно мягче продолжал Хафиз.
Не поднимая глаз, Галим машинально взял со стола костяную ручку. Она хрустнула у него в руках.
– Ручка сломалась – не беда, купишь новую. А вот если старая дружба расколется, чем её заменишь? – произнёс Хафиз как можно спокойнее, чтобы не уязвить самолюбия Галима назидательностью тона.
Но друг его, не понимая, что допускает одну ошибку за другой, ответил упрямым молчанием.
Хафиз поднялся. Галим тоже. Оба одинакового роста, они стояли так близко, что каждый ощущал горячее дыхание другого.
Вдруг Хафиз обнял приятеля.
– Галим, ведь мы же друзья! Скажи, почему ты такой… – он замолк, не найдя подходящего слова.
Галим передёрнул плечами, стряхивая руку Хафиза.
– Нечего мне говорить.
– Ну, тогда я скажу. Репетиция, которую ты сорвал, перенесена на завтра… после уроков. Учти! – перешёл Хафиз на официальный тон. – Говорю тебе это, как комсорг.
И, не дожидаясь ответа, вышел.
2
Вожатые вручали сегодня красные галстуки вновь принятым пионерам. Первой Мунира Ильдарская завязала галстук девочке с васильково-синими, жадно открытыми глазами. Третьеклассница неотрывно следила за движениями вожатой, словно хотела навсегда запечатлеть малейшие подробности этой минуты. И сейчас, одна в квартире, Мунира невольно улыбалась, вспоминая вбирающий, радостно-смущённый взгляд девочки.
Мать Муниры, Суфия-ханум, инструктор райкома партии, ещё не возвратилась с работы. Мунира полила цветы, убрала комнату и отправилась на кухню готовить любимые мамины галушки – чумару. За всеми домашними хлопотами она и не заметила, как настроение ясной лёгкости, которое она унесла с пионерского сбора, постепенно опять затуманилось. Не потому, что она была одна, – Мунира привыкла к этому, редко выдавались счастливые вечера, когда они с матерью проводили вместе два-три часа. А сегодня тем более – бюро райкома, на котором мама, кажется, докладывает, так что раньше двенадцати её не жди.
Давно освоилась Мунира и с тем, что подолгу живёт вдали от семьи и отец её, подполковник Мансур Ильдарский. Сколько она помнит себя, он всегда служил в кадрах Красной Армии, часто получал новые назначения, уезжал и опять возвращался. Правда, в последнее время письма от него идут уж очень долго с далёкого Карельского перешейка, где он со своими бойцами сражается против маннергеймовских фашистов, и колющий страх за отца нет-нет да и закрадывается в душу Муниры.
Но в этот вечер Мунире навязчиво вспоминалась сегодняшняя выходка Урманова. Со стороны Галима это был непонятный и оттого, казалось, ещё более грубый выпад. И не только против неё – против всего класса, против всей школы. С тех пор как Галим вышел из мальчишеского возраста, он ни разу так обидно резко с нею не разговаривал. Неужели он посмеет и завтра не прийти на репетицию? Сорвать спектакль, в который вложены поиски и тревоги целого коллектива…
– Вот мальчишка! – вырвалось у Муниры вслух.
Слово это она употребляла часто, вкладывая в него несколько иной смысл, чем оно имело на самом деле.
В устах Муниры оно означало одновременно осуждение зазнайства и нечуткости, легкомыслия и нетоварищеского отношения.
Мунира так ушла в свои мысли, что коротенький звонок, раздавшийся в прихожей, заставил её вздрогнуть. «Кто это? Неужели мама так рано?» Мунира открыла дверь и радостно воскликнула:
– Таня, ты! Заходи быстрее!
Девушки поцеловались. Мунира погладила ладонями зарумянившиеся, в ямочках, щёки подруги.
– Замёрзла?
– Ничуть. Ты одна?
– Одна. Мама на бюро.
Таня переплела концы своих тёмных, с блеском, тяжёлых кос, которые она носила не на спине, как Мунира, а перекидывала на грудь. Мунира видела в этом что-то неуловимо Танино. Ей всё нравилось в подруге: выпуклый лоб с колечками завитушек на висках, спокойный, внимательный взгляд, твёрдые губы, голос и смех искреннего человека.
В столовой, скинув туфли, девушки устроились на диване, каждая в своём любимом углу.
С первого взгляда Таня уловила озабоченность подруги.
– Что бы ты сказала о комсомольце, который отвернулся от всего коллектива? – постукивая карандашом по своим длинным пальцам и не называя пока Урманова, торопилась излить своё волнение Мунира.
Таня не спешила с ответом. Пусть Мунира выскажется яснее.
– Из-за этого хвастуна Урманова может сорваться наш праздничный спектакль. Понимаешь, он потерял всякое чувство ответственности, носится, как с писаной торбой, со своей «блестящей», видите ли, шахматной партией. Подумаешь, мир хочет удивить этой победой!
Таня всё ещё молчала. После паузы Мунира сказала более спокойно:
– Справедливо будет с нашей стороны вынести ему выговор за такой поступок? Как по-твоему, Таня? – Карие глаза Муниры говорили: «Да отвечай же поскорей!»
– С выговором я бы, пожалуй, не торопилась. – Таня характерным для неё движением сжала на секунду губы, потом убеждённо сказала: – На комитете обсудить следовало бы. А вообще-то Галим неплохой парень. Дайте ему почувствовать по-товарищески, по-комсомольски, что он поступил недостойно. Он поймёт свою ошибку.
– Пожалуй… это правильно, – с готовностью согласилась Мунира. – Толковая ты у меня, Танюша. – Ей было приятно, что мнение Тани, которую она привыкла считать умнее себя, совпало с тем, что сама она, несмотря ни на что, думала о Галиме.
Мунира благодарно обняла Таню за плечи.
…Они подружились с Таней давно, как только Владимировы приехали в Казань. Их отцы, Константин Сергеевич Владимиров и Мансур Ильдарский, были старыми боевыми товарищами. Первое время они жили вместе. Девочки ходили обнявшись – Таня черноволосая, черноглазая, у Муниры волосы посветлее, глаза карие, – в одинаковых коротеньких платьицах, с красными галстуками на шее, и громко распевали: «Край родной, навек любимый, где найдёшь ещё такой!»
Мунира и сама не знала, с чего началась их дружба, – может быть, она началась с того часа, когда Таня в саду, под яблонями, показывала свой семейный альбом. «Вот это мой дедушка, – говорила Таня, гладя пальчиком пожелтевшую от времени фотографию, – он был революционером, боролся против царя. Папа рассказывал – за ним шпики охотились… жандармы приходили с обыском…»
И Мунире так захотелось тогда, чтобы и её дедушка тоже был революционером. Но мать говорила, что он был просто крестьянин, пахал землю – и всё.
Показала Таня и старую карточку своего отца. Константин Сергеевич на ней был совсем не похож на теперешнего Таниного солидного папу – такой молодой, высокий и тонкий, в военном френче.
– Комиссар гражданской войны, – сказала гордо Таня. – А теперь он партийный работник.
И Мунире опять-таки захотелось, чтобы и её отец тоже был комиссаром, хотя обычно она всегда гордилась своим отцом – командиром Красной Армии.
Как-то вечером в большой квартире Владимировых Мунира и Таня остались вдвоём. Началась гроза. Беспрерывно сверкали молнии. Было страшновато, но девочки держались храбро, даже что-то декламировали в два голоса. Но вот гром ударил прямо над ними. Они остались в темноте, и почти в ту же секунду высоким пламенем вспыхнула крыша соседнего дома.
Бледная, с широко открытыми от страха глазами, Мунира забилась в уголок. Таня же решительно подошла к телефону и, набрав номер, совсем-совсем спокойным голосом – так показалось Мунире – сказала:
– Папа, у нас электричество погасло. Мы одни с Мунирой. А рядом загорелся дом…
С тех пор Мунира полюбила Таню ещё крепче и старалась во всём подражать ей…
Суфия-ханум вернулась поздно, уже в первом часу ночи.
– Мама, что с тобой? Ты больна?
– Очень устала, Мунира, – Суфия-ханум тяжело опустилась на диван.
– Ты совсем не бережёшь себя, мама, – нежно гладила Мунира рано поседевшие, собранные низко на затылке волосы матери. – Разве можно работать так много? Вот напишу папе.
Суфия-ханум хотела улыбнуться, но улыбка не вышла. «Если бы ты знала, что с твоим папой», – подумала она.
– Отдохни капельку. Сейчас всё будет готово.
Суфия-ханум вышла умыться. Мунира шепнула Тане:
– Наверно, на бюро стоял какой-то неприятный вопрос. Мама в такие дни всегда волнуется.
Она принесла из кухни дымящуюся в высокой миске чумару и, чтобы хоть немного отвлечь мать от её мыслей, опять принялась рассказывать о выходке Галима.
Суфия-ханум, рассеянно слушая дочь, торопливо съела тарелку чумары.
– Ну, девочки, пора на покой. Завтра рано вставать.
Мунира с Таней ушли в свою комнату, но долго ещё, выключив свет, шептались в постели.
Суфия-ханум осталась в столовой. Наконец-то одна!.. От внутреннего озноба у неё вздрагивали плечи. Кутаясь в пуховый платок, она вновь и вновь перечитывала помятый листок бумаги с наезжающими друг на друга буквами, – видно, писали карандашом на чём-то неровном, может быть на снарядном ящике.
С тех пор как финны спровоцировали войну, Суфия-ханум беспокойно ждала известий от мужа. Её Мансур был там, в огне, и она мысленно следила за каждым его шагом. Как-то в одном из очерков «Правды» она прочла, что полк Ильдарского ведёт бои на основном направлении, и сердце Суфии-ханум забилось от гордости и тревоги. «Мансур, почему я не рядом с тобой, как это было в гражданскую войну? – думалось ей. – Трудно, наверно, тебе, Мансур, трудно, наверно, твоим бойцам…» Она старалась представить себе далёкую Карелию и видела лишь нагромождения скал и ледяные озёра.
Детство Суфии-ханум протекало в Златоусте. Её отец много лет варил сталь, мать работала подносчицей на том же заводе. Началась гражданская война, восемнадцатилетняя Суфия ушла в Красную Армию и на фронте встретила командира взвода Мансура Ильдарского.
А потом, разделяя все трудности походной жизни, прошла вместе с мужем по многим боевым дорогам. И Мунира, единственная их дочь, родилась между боями.
Когда Мунира спрашивала мать о месте своего рождения, та отвечала:
– Родина твоя, дочка, Дальний Восток. На свет ты появилась в палатке полевого госпиталя.
Суфия-ханум некоторое время жила у своих стариков, потом переехала в Москву, к мужу, слушателю военной академии. Много округов изъездили они – Мансур служил в разных городах. Но когда Мунире пришла пора учиться, Суфия-ханум прочно осела в Казани: не хотелось отрывать Муниру от родной школы. В этом году Мунира заканчивает десятилетку, но до сих пор она ещё не решила, какой изберёт жизненный путь. И Суфия-ханум с нетерпением ждала окончания войны. Мансур писал, что после завершения кампании будет проситься в отпуск. И она надеялась, что они сообща выберут будущую профессию дочери.
А вместо того в руках Суфии-ханум это горестное письмо. Она получила его сегодня утром, после того как проводила Муниру в школу.
«…Во время штурма линии Маннергейма наш любимый командир Мансур Хакимович получил тяжёлое ранение…» – в который раз перечитывает Суфия-ханум и прижимает письмо к глазам. «Мансур!..» – беззвучно плачет она, положив голову на руки, и видит юное, смуглое, сосредоточенное лицо Мансура, Мансура времён гражданской войны.
Никогда не забыть ей того дня, когда Мансур спас её от позора и смерти. В украинских степях на их небольшой конный отряд внезапно налетели петлюровцы. Суфия, оберегая раненого красноармейца, осталась во вражеском кольце.
«Спасайся, сестра!» – успел крикнуть раненый и упал, зарубленный саблей. Петлюровец уже бросился на Суфию. И тут словно из-под земли вырос около них на взмыленном коне Мансур. Сверкнули клинки, захрапели кони. А безоружная Суфия ничем не могла помочь своему защитнику. Мансур бился против двоих. Потом он поднял Суфию на седло, и они помчались по степи. То слева, то справа свистели пули. Суфия чувствовала жаркое дыхание Мансура на своей шее. Вражеская пуля могла бы попасть в неё, только поразив Мансура…
Суфия-ханум встала, приподняла камышовые шторы на окнах.
Снег ложился крупными хлопьями, словно падали с неба белые цветы.
И странное дело, это реянье снежинок подействовало на Суфию-ханум успокаивающе. Казалось, они падали не там, за окном, а прямо в её сердце, остужая жгучую боль. Она прочла письмо ещё раз и нашла то, чего ранее не заметила: проблески надежды…
Скрипнула дверь. «Неужели Мунира? Сказать ей? Или не надо? Ведь завтра в школе вечер. Мунира участвует в постановке. Она и так сильно волнуется, не сорвался бы спектакль. «Кюзнурым»2, она и не чует беды. Спрашивает вчера: «Мама, как ты думаешь, вышла бы из меня артистка?» И тут же прибавила: «Не надо, не говори, я ведь совсем и не хочу стать артисткой». А если не сказать… не будет ли потом ещё труднее?.. Всё равно, не следует сегодня ничего говорить. Пусть останется неомрачённым этот торжественный вечер в памяти Муниры».
Таня вошла неслышно, на цыпочках, в одном халате.
– Таня? – удивлённо прошептала Суфия-ханум.
– Простите меня, Суфия Ахметовна, – также шёпотом сказала Таня. – Что с вами? На вас лица нет… Мне показалось, что вы… Случилось что-нибудь? Мансур Хакимович?..
Суфия-ханум прижала девушку к груди и заговорила сдавленным полушёпотом:
– Девочка моя… пока ничего не говори Мунире… Отец её тяжело ранен… Я получила письмо… Она уснула?
– Спит.
– Она очень увлечена школьным спектаклем и, к счастью, не заметила моего состояния. Вернее, заметила, но подумала, что я просто устала. Боюсь только, – покачала головой Суфия-ханум, кутаясь в платок, – от Муниры я долго скрывать не смогу.
До сих пор война – где-то на границе Советского Союза, в Карелии, – представлялась Тане очень далёкой. Но вот война пришла в дом самой близкой подруги, и только сейчас девушка начала постигать всю её жестокую реальность.
Таня была слишком молода, чтобы уметь утешать, тем более она не знала, какие слова утешения сказать этой седеющей женщине, которая держится с удивительным достоинством и так строга и замкнута в своём горе.
От внимания Суфии-ханум не укрылось душевное состояние девушки. Без слов поняв, как искренне Танино сочувствие, она прижалась горячими, сухими губами к её лбу и молча подтолкнула к двери в комнату дочери.