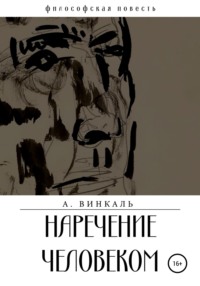Kitobni o'qish: «Наречение человеком»
Вступительное слово
Стоит начать с того, что данное повествование ни в коем случае нельзя рассматривать с художественной точки зрения. Будь воля автора, он с удовольствием бы выкинул за ненадобностью добрую половину произведения – и гроша ломаного не стоит этот литературный ширпотреб, нужный здесь лишь для того, чтобы заинтересовать необразованного читателя, подготовить его к действительно важному процессу: погружению в себя самого, в источник своего происхождения и, как следствие, уяснению действительного значения человеческой личности в мире как явления первостепенного и несомненного. Похождения главного героя играют малую роль, служат, в первую очередь, для более понятного изложения главной мысли неосведомлённому в вопросах философии человеку, потому в повести представлено немало метафор и сюрреалистических аллегорий, дабы заарканить читательский интерес. А философия занимает в «Наречении человеком» центральное место. И неспроста.
Философия – это и притча, и эксперимент. Философия учит и наставляет. В то же время философия не уверена в своём знании, потому она только пробует учить, равно как и пробует наставлять. Так обстоит дело и с «Наречением…». Цель повествования – научить тому, что неизвестно, относительно чего философия может строить одни догадки и предположения. И одной из таких догадок представляется нам учение о смысле жизни человека, вернее, о причинах его бытия.
Извечный вопрос о смысле (цели, причине, ценности – вот что подразумевается) человеческого существования[1] вот уже многие столетия будоражит пытливые умы, он прост и насущен, как кусок хлеба, в котором нуждается абсолютно каждый, и между тем сложен и не доступен человеческому осмыслению. Поиск ответа идёт в двух направлениях: чувственном (интуиция, переживание, откровение, чувство) и рациональном (разум, рассудок). Однако рационализм, как правило, опровергает первое, а иррационализм – второе, и каждый из них провозглашает истину своей неприкосновенной собственностью. А вопрос всё так же остаётся нерешённым. Тогда, быть может, дело в неправильной постановке вопроса? Отсюда могут проистекать и неверные трактовки, и ложные ответы. Что ж, предположим, это так. В таком случае позволим главному герою – несомненно, философу, который как нельзя кстати появляется в нашем рассуждении, – опрокинуть этот вопрос с ног на голову, а после решить его так, как тот посчитает нужным: всеми возможными путями, рациональными и нет.
Героем повествования выступит болезненно бледный, с пожелтевшим от несчастья лицом, с поседевшим от тревоги волосом человек двадцати-двадцати пяти лет. Глаза его впалые, нос острый, скулы точёные. Вся прошедшая жизнь стёрта из его памяти. Он наг; всё, что осталось при нём, – это жалкая тряпка, накинутая поверх костлявых гениталий. Как он жалок на вид! Так оставим его, бросим навеки. Скинем во тьму, на самое дно бездны – там убогому место. И когда человек очнётся…
Глава 1. Пробуждение
Открыв глаза, он решил, что ослеп: абсолютно непроглядная тьма окружала его со всех сторон плотной стеной. Человек не знал, был ли он прежде зрячим. Возможно, солнце скрыто от его взора с самого рождения.
Солнце… Смутное воспоминание мелькнуло в его голове, но в ту же минуту померкло, и человек забылся, распластавшись на холодной земле.
Холод разбудил несчастного. Он пробирал до мозга костей, пробуждал к жизни каждое нервное окончание, призывая человеческое тело очнуться от продолжительного забытья. Несовместимые, казалось, вещи вступают порой в дружественный союз: холод и жизнь – что может быть абсурднее? Веки человека приподнялись, обнажив красные мертвенные глаза. Кругом сгущался мрак. В этом чуждом месте, где оказался человек, царила извечная ночь.
Дрожащие руки упёрлись в землю и сделали попытку сдвинуть окоченевшее тело с места. Тело не подчинилось. Зато подчинился рассудок. Мысли зашевелились и завертелись, словно шестерёнки некоего невидимого механизма, восстанавливая в памяти отдельные фрагменты и образы подёрнутого дымкой забвения прошлого. Человек прислушался. В этот миг внимание его обратилось лишь к одной действительно волнующей его точке окружающего пространства: закоченелый комочек плоти, с ужасом озирающийся по сторонам, – он сам.
Глава 2. На дне
– Что есть я? Я чувствую холод. В первую очередь, я есть чувство. Я мыслю чувство, а значит, я есть мысль.
Мелкий сор, прежде лежавший у самой земли, взмыл кверху от лёгкого движения руки человека и заволок тому глаза. Растирая веки, кашляя и отплёвываясь, он вдруг сквозь слезы разглядел смутные, но уже мало-мальски различимые очертания голых отвесных стен, окружавших его. «Так я не слеп!» – воскликнул человек и стал беспокойно озираться: мир заиграл красками. В действительности, глаза его начали свыкаться с темнотой.
Теперь явилась возможность изучить и своё окружение. Как ранее было сказано, со всех сторон человека обступали высокие, если не сказать бесконечные, поскольку они тянулись куда-то ввысь, в недоступную человеческому глазу вышину, стены малоизвестной горной породы. Они замыкались в сплошной круг, в центре которого оказался человек. Ни звук, ни луч света – ничто не могло проникнуть сюда, на дно этой глубокой безжизненной пропасти.
Чувство болезненного страха возобладало над несчастным: вскочив на ноги и прильнув лицом к холодной поверхности, он ухватился руками за каменные выступы и стал взбираться по ним наверх. Камень сыпался под яростным напором рук. Превозмогая слабость и боль, человек лез всё выше, тяжело дыша и бормоча под нос что-то невразумительное: «Я есть средоточие… есть особое средоточие… гм!.. природных сил… выражение истины!.. Есть ли здесь похожий на меня? Немыслимо, чтобы я один такой на целый свет уродился! Нет, нет, я не один!»
Непосильная задача встала перед ним – укрощение камня. Пока он карабкался, камень под весом тела обваливался, ноги его соскальзывали, и человек повисал над пропастью, слабо цепляясь за неразрушенные куски гранита. Каждый промах мог стоить ему жизни. Потому природа наделила его смиренным мужеством: она уготовила ему орудие, возможности которого безграничны, а сила неисчерпаема. С каждым новым усилием дыхание перехватывало: лёгким не хватало воздуха, человек широко разевал рот, выпячивая нижнюю челюсть, и с особым старанием вгрызался в гранит цепкими пальцами. Где-то вверху замаячил луч света, слепя, но преисполняя силами горного восходителя. Бесплодный страх сменился тихой радостью.
Пропасть оказалась не столь уж глубокой, и уже совсем скоро человек очутился на краю обрыва, некогда сыгравшего роковую роль в его жизни. Он с нежностью припал к влажной земле и впился в неё губами, да так и застыл. Свежий воздух дурманил и опьянял, солнце ласково пригревало темя, а запах земли пробуждал силы – всё дышало свободой и будоражило истосковавшуюся по земной жизни душу. Человек не заметил, как уткнулся носом в чьи-то худые смуглые ноги.
С особым интересом его изучали чужие человеческие глаза.
Глава 3. Приговор
Поношенный неопрятный балахон, накинутый поверх нагого тела, медленно влачился вслед за своим владельцем меж скромных расписных убежищ, из которых то и дело сверкали гневные взгляды. Это жалкое одеяние предоставил человеку какой-то юродивый, хромой, с бельмом на правом глазу старичок. Он нескончаемо юлил вокруг гостя, без умолку лепетал какие-то бессвязные слова и указывал руками в сторону невзрачной лачуги, предположительно, являвшейся его собственным жилищем, но больше похожей на собачью конуру. Пребывая в полной растерянности, человек молча повиновался ему, следуя по указанному пути.
Настал полдень. Солнце опаляло, жгучие лучи так и вонзались в белёсую кожу, не привыкшую к жаркому южному климату. Не спасали даже тени деревьев, плотно обступивших маленькое поселение, приютившееся среди горных массивов на краю злосчастного обрыва.
Да, действительно, это была южная сторона, хоть отсюда и не было видно моря. Человек вытер пот со лба и мучительно вздохнул. Его мучил не столько палящий зной, сколько витающее в воздухе напряжение, яростное мысленное ополчение жителей против него, чужака, посягнувшего на их территорию. Ещё чуть-чуть – и они все, все без исключения, набросились бы на чужестранца, растерзали бы на мелкие кусочки и радостно завопили, празднуя скорую кончину человека.
Выручил несчастного хромой старичок, проводивший человека до жилища и укрывший его от лишних глаз. Лишь только они оказались в лачуге – в тесном, обветшалом, сколоченном кое-как домике, лицо юродивого переменилось и приняло серьёзный вид. Такая внезапная перемена не могла не удивить человека.
– Эти люди не любят тебя. Впрочем, меня они принимают за слабоумного, но любовь – о нет, этого у них не отнять! Ты – вор, раз грабишь чувства людей, – многозначительно сказал старик. Голос его, прокуренный за десятки прожитых лет, хрипел от напряжения. Видно было, что юродивый чрезвычайно стар и, как любой старик, недоволен жизнью: в голосе его звучали нотки недоверия и болезненного раздражения.
– А что побудит… Прости, я безграмотен, как ты выразился? Люди? Хорошо, что побудит этих людей к любви? Я чужестранец. Мало того, они чужестранцы для меня в гораздо большей степени, чем я для них. До настоящего времени мне не встречалось ни одного подобного мне существа, да и нынче я не до конца уверен, что повидал подобных себе.
В этот момент брови человека нахмурились. Тогда старик подполз поближе к страннику – теснота лачуги не позволяла свободно передвигаться, приходилось низко пригибаться к земле или же ползать на коленях – и заглянул ему в глаза.
– Как же так, – с изумлением проговорил старик. – За кого ты себя почитаешь?
– Мне незнакомо то, о чём ты говоришь, старик. С того часа, как я очнулся на дне пропасти, мне вообще мало что знакомо. И потому мне пришлось начать жить сызнова, с самого начала, нарекать имя вещам и нарекать имя себе. Лишь самое малое я помню и лишь самым малым обладаю – способностью мыслить. В этом есть я. А вы, вы все в этом есть?
– Прежде чем возражать, позволь, я задам тебе несколько вопросов, – юродивый наклонился к человеку.
– Боюсь, я мало на что смогу отвечать.
– Я не требую от тебя многого: отвечай, что знаешь, а если не знаешь – а ты, несомненно, знаешь границы своего незнания – молчи. Итак. Действительно ли ты считаешь, что имя нарёк себе сам?
– Имя моё мне известно отроду.
– Значит, ты не сам нарекаешь себя?
– И да, и нет.
– А вещам, окружающим тебя?
– Кто, как не я, наречёт их?
Еле заметная улыбка мелькнула на лице старика.
– Знать, природа не обделила тебя разумом. А прочих? Как ты полагаешь? Разумны прочие или нет? – продолжал он.
– Полагаю, что всё, чему я имя нарекаю, неразумно[2], – уклончиво ответил путник.
– Верно. А чему ты имя не нарекаешь?
Человек умолк.
– Ежели тебе угодно двинуться далее в нашем рассуждении, то следует ответить на этот вопрос. Ответ тебе неизвестен… – начал старик, но человек с остервенением перебил говорящего:
– Он ясен для меня. Что тебе известно, увечный, о том пути, что я преодолел, пока взбирался к вам, в земную жизнь!
Старик помолчал и равнодушно оглядел лачугу. Ветхое дерево сильно нагрелось на полуденном солнце, и в помещении стояла невыносимая духота. Старик попытался сглотнуть, но попытка была тщетной: от жары во рту всё пересохло; воды в доме не имелось. Тонкие морщины проступили на лбу юродивого, рот перекосился от ожесточения. Он смерил чужестранца долгим оценивающим взглядом:
– Ты не желаешь слушать меня. Ты думаешь, что знаешь; быть может, и впрямь. А раз знаешь, тогда найдёшь в себе силы сказать мне следующее: отчего ты наречён, человек?
«Человек!» – загадочное слово, оброненное стариком, зацепило гостя. Дыхание перехватило. Внутри отчаянно забилось сердце, да с такой сокрушительной силой, что грудная клетка заходила ходуном. Ещё безумнее оно заколотилось с осознанием сути вопроса.