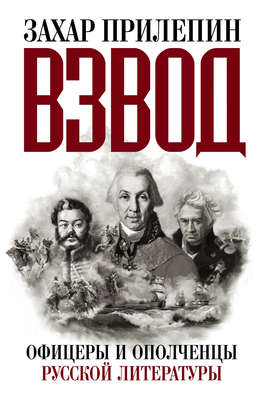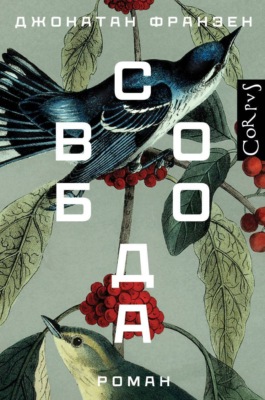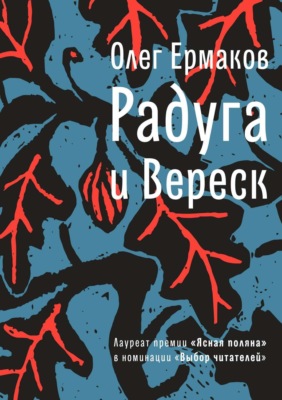Прилепин интервью
Захар Прилепин рассказал проекту «Кофейня ЛитРес» о том, как попал в ОМОН, о желании написать романтический роман про счастье, о русском рэпе и о взглядах на классическую литературу. Беседу вел Владимир Чичирин.
Сразу хочу спросить: как там дела с экранизацией «Обители»?
Я ничего по этому поводу не знаю, потому что режиссер Саша Велединский очень обиделся за программу о Высоцком, которую я снял на НТВ. И мы с ним не общаемся.
Что вы там такого с Высоцким сделали, что у вас такой конфликт?
Саша из старшего поколения, а для людей старшего поколения Высоцкий – это легенда. У меня и родители его слушали, и сам я его обожал. Я знаю все песни Высоцкого, знаю, когда они написаны, и могу половину точно допеть до конца. Я вовсе не пытался низвергнуть Высоцкого с пьедестала. Я просто предположил, какую позицию занял бы Высоцкий в 1991 году. И, конечно же, я сказал, что совершенно очевидно, что сыграла бы роль сила среды: Булат Шалвович Окуджава, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина – люди, которые, безусловно, приняли 1991 год, и, конечно же, Высоцкий был бы с ними, а не с Валентином Распутиным и не с Василием Шукшиным, при всей любви к ним. Потому что его среда была – альманах «Метрополь». Витя Ерофеев, Женя Попов и вся эта компания. И Вася Аксенов. Его братья и друзья – Ерофеев и Попов – были еще маловаты, а Аксенов был ему большой товарищ. Поэтому я сказал, что, конечно, он был бы с демократами, а потом бы постепенно, к концу девяностых годов, Высоцкий, как честный человек... «Как же ты посмел Владимира Семеновича?» Да вы все тогда были демократами! Мне недавно одна женщина сказала, тоже сейчас такая ярая патриотка: «Зачем вы сняли такую программу о Высоцком? Как вы могли?» Я ее спрашиваю: «У вас какие были взгляды в 1991 году?» – «Мы были демократы». – «Тогда почему Высоцкий бы не был, если вы все были?»
Ваши политические взгляды, настолько мне кажется, отражаются на всей вашей жизни. Вы все-таки писатель или политик?
А это не политика, при чем тут политика? Это форма жизни нашего народа. Была большая страна, она развалилась на огромные части. На ее территории идет война. Если ты скажешь: «Я писатель, и я вне всего этого нахожусь», – что ты тогда за писатель такой? Гражданская война, а Блок, Есенин и Маяковский говорят: «Знаете, мы писатели...» Или Цветаева и Ахматова, или Гумилев: «Мы писатели, мы вне этого». Значит, вы не писатели. Те пишущие люди, которые не берут на себя ответственность за происходящее, не остаются в памяти народа, потому что какие это писатели для народа, если им было совершенно по барабану то, что происходило? Крымская война – Толстой на Крымской войне. Потом пишет «Севастопольские рассказы». Он писатель. А который говорит: «Я не писатель, меня эта заварушка где-нибудь на юге, на Кавказе, не интересует, меня интересуют другие вещи», – ты не писатель, ты пошел вон отсюда.
Впервые я серьезно обратил внимание на ваше творчество на одном большом литературном мероприятии. Там в одном страшно прокуренном, уж простите, сортире собралась группа литераторов, и вас там крыли пятистопным ямбом, очень талантливо. Вас литературный круг не очень любит, да?
Я очень доволен тем, что люди, которые собираются в курилке, меня обсуждают, у них с уст не сходит мое имя. И мне об этом периодически сообщают: то в этой курилке, то в «Жан-Жаке», то еще где-то сидели люди, и я клубился над их столом, они перебрасывались моим именем, они трепетали и трепыхались. Это хорошо. Я присутствовал в их жизни, они меня оспаривают. Если бы меня не было, то вы бы рассказали так: «Я зашел в курилку, сказал, что есть Захар Прилепин. Они ответили: „Нет, мы не в курсе. А что, пишет такой? Не знаем, не читали“». Тогда было бы обидно. А так – нет, так – прекрасно. Я их сам терпеть не могу, почему я должен им нравиться? Я и не скрываю от них этого совершенно.
Речь, конечно, шла в контексте «Обители». Я прочитал аннотацию и испытал разочарование. Почему для любого писателя, который хочет оставить какой-то след в современной литературе, это такая обязательная программа – написать про сталинский период, про лагеря, про репрессии и так далее?
Это, конечно же, не обязательная программа. Есть огромное количество писателей, которые никак этого не коснулись, в том числе из моих учителей и старших товарищей. Этого по большей части нет ни у Эдуарда Лимонова, ни у Александра Проханова, ни у Леонида Юзефовича.
Номинанты «Большой книги» – Улицкая, Сорокин, Быков, Водолазкин... И тут вдруг Захар Прилепин с книгой о лагерях, притом что взгляды Прилепина все-таки большевистские.
Взгляды – да, но это не должно касаться моей литературы. Это колоссальная история, которая не только нас затрагивает, но и то, как нас воспринимают извне. Я бываю за границей, был не так давно во Франции: на книжной ярмарке 58 альбомов с фотографиями жертв ГУЛАГа и ни одной книжки, посвященной Второй мировой войне и участию в ней России. Как будто этого не было, а ГУЛАГ – был. Это очень серьезная тема. И именно то, как тюремная тема воспринимается в сегодняшней России, в мире, статус Солженицына побудили меня обратиться к ней. Много кривых зеркал, многие вещи надо заново проговаривать. И в этом нет никакой проблемы.
Я бы с удовольствием написал еще одну книгу, была бы возможность, например о Гражданской войне. Потому что много кривых зеркал, потому что нагоняется какая-то ложная идеология – сначала советская, потом еще более ложная антисоветская. И из-за этого у людей формируются какие-то совершенно банальные взгляды и восприятие. То «Это была пролетарская революция во главе с великим Лениным», то потом «Это жиды обманули и заманили русских людей, а прекрасные аристократы хотели великой неделимой России». Так или так – два стандарта, все это очень глупо. Я жажду сложной картины мира. Когда взялся за тему Соловков, я тоже хотел видеть сложную картину мира, и я ее увидел.
Да, в «Обители» каждый прочтет свое. Коммунисты или либералы, сталинисты или антисталинисты – все равно каждый найдет в этой книге аргументы в пользу собственной позиции. Вы верите, что хорошая качественная литература или искусство реальны, могут изменить человека, его взгляд? Или все-таки литература ничего не меняет, она только подтверждает те или иные взгляды, не обязательно политические?
Я согласен с вашим мнением об «Обители». Скажем, поэзия Есенина или Блока легитимизирована и в белой, и в красной среде, и в эмигрантской, и в советской. И поэму «12» Блока, и даже «Анну Снегину» Есенина до сих пор читают и прочитывают противоположным образом. То ли Христос ведет большевиков, двенадцать человек, то ли Антихрист – Анти-Христос, то ли Луначарский – Наркомпрос. Или «Капитанская дочка» Пушкина. За кого Пушкин? За Гринева, за матушку Екатерину Великую или за Пугачева? Все у него там хороши, и все по-своему симпатичны.
Книги, конечно, меняют. Не просто меняют отдельных людей, что очень часто происходит, – они создают этносы и народы с их языком, жестикуляцией, с их моралью, с их системой представлений о действительности. Мы – народ, безусловно, даже если не читали огромное количество произведений Пушкина и Гоголя. Мы народ «Полтавы», народ «Тараса Бульбы», народ «Войны и мира». Сама система поведения – через школьное образование, через экранизации, десятки тысяч слов, оборотов, фраз, афоризмов и утверждений – распространяется в нации. Любой народ начинается с песни, которую пели во время пахоты и прочих сельхозработ, либо вокруг костра сидели и пели героические песни о победе. Любой этнос начинается с литературы.
Сейчас есть возможность стать великим русским писателем, есть ли потенциальные классики?
Конечно, во-первых, я. Я не шучу. Никаких проблем нет, и конкуренции, конечно. С тех пор как в России есть Пушкин и Лермонтов, уровень конкуренции всегда будет просто недосягаемый. Можно валять дурака и говорить, мол, я претендую на звание классика, но оглядываешься назад, видишь Достоевского и Толстого и немножко притихаешь. Успокаиваешься. Однако это никого не должно расслаблять, потому что Пушкин и Достоевский оглядывались и видели Шекспира, и Данте, и Гомера. И я, как человек не просто читающий, а окончивший филфак в свое время и прочитавший все это всерьез, с комментариями, могу сказать об этом, как Лимонов говорил о книге «Тихий Дон»: «Вещи, написанные за пределами человеческих возможностей». Но это же не пугало Пушкина, и Лермонтова, и Чехова? И нас ничто не должно пугать, будем брать вес, который берем.
Поэтому, безусловно, у нас есть Валентин Григорьевич Распутин – великий писатель, огромнейший писатель, который проникает в самое сердце, который действует на национальное самосознание и на мельчайшие рецепторы. Он только что жил с нами и был с нами. Эдуард Лимонов – масштабнейшая фигура, огромный писатель, даже не просто писатель, а такое странное сочетание я не знаю кого: Оскара Уайльда, Юнгера, Маркиза де Сада, Маринетти. Я просто называю разные имена. Лимонов скажет: «Все это чушь, все эти люди мне не нравятся». Константин Леонтьев – парадоксальный персонаж мировой культуры. Андрей Битов – великолепный писатель, дай Бог ему здоровья. Есть очень сильные литераторы. Алексей Иванов сейчас живет, наш современник. Отличный писатель, имеет все шансы стать классиком и быть на форзацах.
Да, Алексея Иванова я читаю, а Лимонова что-то дальше «Эдички», к сожалению, не пошел. Я понимаю, должно быть стыдно.
Нет, это не должно быть стыдно, всему свое время. Я, допустим, до сих пор половину романов Достоевского не читал, думаю: «Будет время – прочитаю».
Великая литература, сегодня как минимум, может затрагивать какие-то менее агрессивные темы? Про любовь великое произведение может родиться? Без жестокости.
Почему нет-то? У меня есть совсем маленькие рассказы и повести, в которых нет ни тюрем, ни лагерей, ни революции, ни войны. Конечно, может. И рождается.
Иногда я выступаю в каких-нибудь городах, далеких от Москвы. Спрашивают: «Что же все так мрачно? Чернуха какая-то. Захар, напишите что-нибудь обнадеживающее». Зал сидит двести, триста, четыреста человек. Я говорю: «Кто-нибудь, назовите мне классический текст – хороший, прекрасный, оптимистический текст русской литературы. Давайте, поднимите руку и расскажите мне, где у нас не умер Болконский, не убил Раскольников старушку, не убили Андрия собственноручно и не запытали Остапа? Где в русской классике все закончилось хорошо, хеппи-эндом?»
Поэтому я и спрашиваю: это вообще невозможно у нас? Русская душа все время только о страданиях, мучениях, терзаниях.
Да нет, может, и возможно. Есть блистательный роман про любовь, мой самый любимый роман на белом свете – «Вечер у Клэр» Гайто Газданова. Там, правда, в основном действие происходит во время Гражданской войны, но, по сути, мужчина и женщина встречаются, у них любовь, и все прекрасно. И есть еще десяток-другой таких текстов, я могу их вспомнить. Тот же самый Иванов. У него там, конечно, кто-то гибнет, но он все свои книги делает по кинематографическим принципам: все равно все должно закончиться как-то неплохо, ближе к хорошему или совсем хорошо. Поэтому я читаю практически каждый его роман. У читателя должно остаться светлое чувство, что жизнь продолжается.
Мне кажется, было бы интересно почитать романтический роман от Прилепина.
Я напишу когда-нибудь романтический роман, обязательно. Про любовь, про счастье, концентрированное счастье.
Вы не последний человек в музыкальном мире. Мне кажется, что вы в некотором смысле заняли нишу Троицкого и Козырева, потому что вы сейчас о музыке говорите, наверное, больше всех.
Не скажу, что я занял место Троицкого и Козырева, но действительно – о музыке стали очень мало говорить. Во времена, когда мы с вами взрослели, в 80-е – 90-е, музыка занимала колоссальное пространство. Осмысление музыки и трактовка музыки – это было важнейшее дело. Музыкальные журналы, музыкальные газеты, рецензии. Потом это исчезло вообще: никто ничего не рецензирует, не читает, не понимает. То есть в Сети какая-то жизнь происходит, в отдельных местах типа рэп-сайтов, а в большом общественном поле этого нет. И да, действительно, со мной на центральные каналы вернулась единственная большая музыкальная программа с серьезной музыкой, которой не было с 1990-х годов, с программы «А». И какое-то осмысление музыки, в том числе и рэп-музыки, и новейшей рок-музыки, как поколенческой темы, – это тоже меня касается. Но я немного этим позанимался, и эта тема скорее закрыта. Моя программа «Соль» не выходит уже год, а закончил я ее снимать полтора года назад. И статьи о музыке я тоже не пишу, в рэп-движении по большей части разочаровался, Хотя я защищаю его от вульгарных нелюбителей рэпа, но в целом я понял, что это не настолько глубоко, как мне казалось в 2007 году.
У вас своя группа. Вы и там уже не поете?
В то время, пока я жил в Донецке, периодически вырываясь оттуда на день-два, мы три года записывали новый альбом и записали его только что, буквально позавчера. Альбом называется «Цветной», и сейчас мы будем с ним что-то делать. Наверное, будем куда-то его предлагать, делать какие-то презентации. Мои музыканты, конечно, были дико злы на меня, что я перебрался от них на Донбасс, но пластинку мы все-таки сделали.
Я помню 1990-е годы, которые вы, я не знаю, любите или не любите…
Конечно, я не люблю 1990-е годы.
Тогда была песня: «Хороший коммерсант – мертвый коммерсант». Сейчас у вас: «Пора валить тех, кто орет „пора валить“». Это когда-нибудь закончится? Без этого никак?
Вы воспитывались в какой-то монастырской, гуманистической среде? В чем проблема? Искусство всегда стоит на грани какого-то парадокса, агрессии, радикализма, экстремизма. Это было от начала времен. Что значит – «без этого нельзя»? У меня есть другие тексты. Это известная песня «Пора валить», но у меня есть песен тридцать, которые написаны на лирические, любовные темы. Просто за эту песню на меня стали подавать в суд разнообразные либеральные деятели… За экстремизм, за ксенофобию. И они вынесли ее в топ обсуждения. А так – каких только песен у меня нет. У меня военных песен, допустим, две, две – антилиберальные, остальные тридцать – про любовь. Можно так, можно сяк. Это знаете, как Пушкину сказать: «Что ты, не можешь без „Клеветникам России“ обойтись или без своих декабристов? Пиши, что у тебя было. У тебя было чудное мгновение, про него и пиши». Но человек же – разный, он реагирует на разные вещи.
А как вы в эту музыкальную среду попали?
Возможно, этой среде, если мы говорим о рэп-среде, было любопытно, что я человек с другим бэкграундом. У них бэкграунд – их дворы, наркотики, приводы и все остальное, а мой бэкграунд – другой, я не буду его пересказывать. Кроме всего прочего, я еще образованный человек, в отличие от большинства из них: они книжек не читают, очень плохо знают литературу и поэзию, совсем в этом не разбираются. Там есть несколько людей, которые пытаются разобраться и делают в этом успехи. Скажем, Андрей Бледный из «25/17». Оксимирон, я думаю, читает хорошо, Noize MC более или менее что-то читает. Хаски очень много читает. И Рич читает. Но это пять человек я назвал, а их 150. И пришел человек из другой среды и со своей понятийной системой, своим инструментарием разбирает их блюдо, говорит, что есть что. Им, конечно, стало любопытно. Они же молодые дикари, Маугли, и тут какой-то человек, чуть постарше их, лет на пять, совершенно другой терминологией объясняет то, чем они занимаются.
Что сейчас происходит с молодой музыкой? Я имею в виду ту музыку, которую можно назвать музыкой. Про телевизор мы не говорим.
Что происходит, что происходит. Происходит опрощение, к сожалению. Я все время привожу простейший пример: когда существовала рок-музыка, например в 1980-е годы, и группа «Аквариум», и группа «Кино», и группа «Алиса», и группа «Аукцион» позволяли себе от альбома к альбому максимально видоизменяться, экспериментировать, не идти ни у кого на поводу. Потому что не было никакой обратной связи, и они были абсолютно свободны. Записали пластинку, отнесли ее куда-то на ближайший рыночек, продали эту бобину, а потом она начала распространяться по всей России. Не было заявки от быдла (давайте я огрублю), мол, «это мне не нравится, а это мне нравится». И даже когда они уже попали в телевизор, у них был огромный бэкграунд, и они могли пользоваться накопленной славой.
Сегодня – мгновенная обратная связь. Ты записал песню, чуть-чуть отступил от канона – и тут же видишь в YouTube, что у твоего прошлого клипа было десять миллионов просмотров, а у этого – пятьдесят тысяч просмотров. Тебя просто не приняли. Задизлайкали. И ты говоришь: «Нет, я не буду так делать. Я буду делать так, как я делал вчера, потому что это качает». «Ты одна, ты моя». И все нормально. И это опрощение просто прибивает. Надо обладать сверхвозможностями, сверхнатурой, сверхмужеством, сверхупрямством, чтобы позволять себе расти и тянуть эту огромную, достаточно глуповатую публику двенадцати-четырнадцатилетних подростков, очень агрессивных, очень хамливых, очень недовольных, если что-то делается не так, как им нравится; чтобы пренебрегать их мнением и расти, и их за собой тащить. Поэтому выигрывает самый низкопробный, самый отвратительный, самый чудовищный продукт в лице этих Face и Pharaoh. Он очень смешной, очень банальный и со смысловой точки зрения рассчитан на полудегенератов. Там биты могут быть хорошие, какая-то читка, но в целом это не конкурентно по отношению к серьезным рэперам. «25/17» – великая рэп-группа, я совершенно спокойно это говорю. У них самый просматриваемый клип – полтора миллиона просмотров, а у Face – тридцать миллионов просмотров. Но «25/17» прекрасно понимают, что у них другие ставки, они на более долгое время рассчитаны, у них более серьезная публика, и эту публику не снесет первым сквозняком. Они могут гастролировать по всей стране и везде будут собирать две, три, четыре, пять тысяч человек, которые осмысляют и растут вместе с ними. Они вырастили эту публику, и теперь они с ней связаны. Тем не менее этот диктат рэпа для детей, конечно же, все карты спутал. И в наше время, и еще десять лет назад была совершенно очевидная иерархия и в рок-музыке, и в рэп-музыке. А сейчас этой иерархии нет, сейчас налезло каких-то «чепушил».
Но так есть. Все есть, как оно есть, не стоит даже по этому поводу переживать, просто надо спокойно смотреть на то, что мир YouTube, мир постоянно возобновляющейся информации и мгновенного выстраивания рейтингов вывел в качестве главных экспертов двадцать миллионов молодых необразованных людей, и они говорят, что будет все так.
Что вы можете порекомендовать почитать, на что обратить внимание?
Я практически ничего не читал, проживая в Донецке. Я, по-моему, там за два года прочитал три или четыре книжки. Есть великий писатель, наш современник, Джонатан Франзен, американец. Я прочитал «Поправки», «Свобода». Великий писатель. Получил необычайное удовольствие от чтения этих книг. А дальше – работы, которые делали мои товарищи, подтверждающие их отличный, высокий, блистательный уровень. Сергей Шаргунов написал лучшую свою книгу «Свои» – обращение к своей генеалогии, немножко мифологизированное, парадоксально перекликающееся с прозой Катаева. Очень хорошая книга. С большим удовольствием читаю все, что выходит нового, у Олега Ермакова, у Михаила Тарковского, хотя они не так много пишут. «Маяк на Хийумаа» Леонида Юзефовича, рассказы – совершенно блистательная книга. Только что прочитал.
Над чем вы сами сейчас работаете?
Я уже который год пытаюсь дописать биографию Сергея Есенина. До отъезда на войну я уже заключил договор на книгу и начал писать. Но потом на два года я из этого выпал. Мои издатели очень терпеливые, и они ждут ее от меня. Поэтому будет биография Есенина. Если сейчас не начнется какая-нибудь новая война очень любопытная, то я надеюсь дописать ее в ближайший месяц. А потом будет какая-то проза, но это уже после. Может быть, будет книга рассказов, может быть, большой роман. Я пока еще не приступал к этому. Есенина я написал уже половину.
У вас еще есть проект «Взвод…».
«Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы». Я написал первый том накануне отъезда на Донбасс. Достаточно быстро, за полтора – два месяца. Это военные биографии классических русских поэтов, от Державина до Пушкина. Бестужев-Марлинский, Чаадаев. Конечно, хочется написать второй том, и я его напишу. Потому что нет военной биографии Льва Николаевича Толстого, философа Хомякова, поэта Бенедиктова, писателя Гаршина, вплоть до Гумилева и даже, может быть, Велимира Хлебникова. Когда я взялся за военную биографию Пушкина, оказалось, что она вообще никому неизвестна, никто с этим не разбирался. Все говорят: «Пушкин? Донжуанский список – пожалуйста. Декабристы – пожалуйста. А он что, на войне был?» И не только с ним так. Шишков, великий литератор – адмирал. Где он воевал, чем занимался? Философ Чаадаев. Все знают его «Философические письма», что он не любил Россию, а он блистательный офицер, десять лет служил, участвовал во всех крупнейших сражениях той поры. Про это никто не знает, и в биографиях полтора абзаца про это. Я вытащил все эти темы. И мне столько пришло писем – тысячи. Мальчишки особенно пишут, в смысле – взрослые мальчишки: «Захар, если бы так нам преподавали литературу в школе, то мы бы знали, с кем мы имеем дело, а то мы даже и не понимали. Думали, скучные поэты, а тут – рубаки, хулиганы».
Да ладно, что они, про Пушкина не знают, что он такой непростой был?
Про Пушкина знают, что стрелялся на дуэлях. Если я сейчас спрошу у вас, в какой военной кампании участвовал Пушкин, вы же не скажете. А я знаю.
Как вы попали в МВД и почему ушли? МВД, ОМОН и вы как филолог: что вы были за человек в этот момент?
Мы только что с вами обсуждали книгу «Взвод...», где филологи той поры, лицеисты и словесники шли при первой же возможности на любую войну – все книжные мальчики, влюбленные в поэзию, от Батюшкова до Бестужева. По-моему, это совершенно нормально, это как раз нормальная, обычная, банальная вещь. Причем это касалось не только Золотого века. Скажут: «Это давно было, еще при Пушкине». Но и совсем недавно тоже было – при Сталине, когда перед войной все это поколение – Луговской, Слуцкий, Тихонов, Самойлов – бредило военной службой. Это сейчас, в последние годы, вдруг наросло поколение филологов, которые стали ассоциироваться с какими-то комнатными цветами, которые от этого максимально далеки. Как быстро изменилось сознание людей. Вы Гайдара в детстве не читали, что ли, ей-богу? Дениса Давыдова? Хотя бы кино про него не смотрели – «Эскадрон гусар летучих»? Это совершенно нормально – любить словесность, любить литературу и по ней учиться как раз этим совершенно очевидным вещам, что мужчина иногда берет в руки оружие. Никакого парадокса в этом нет.
В ОМОН я пошел работать, потому что надо было где-то работать, а у меня была к этому совершенно очевидная тяга. Я взял академ на филфаке и ушел. И поехал в первую кавказскую командировку, потому что оно мне нравилось: я любил бегать, прыгать, стрелять, бить по груше и все остальное. Чувствовал себя прекрасно. И все. Потом я ушел на вечернее и появлялся на филфаке раз в месяц, бородатый, с медалью, мне ставили быстро все зачеты, и я отлично учился. Все это было очень увлекательно... А потом был 1998 год, дефолт, я женился, у меня родился первый ребенок, и мне омоновской зарплаты перестало хватать на жизнь просто радикальным образом. И все, я ушел, искал какую-то работу и совершенно случайно устроился журналистом. Я искал любую другую работу, я чуть не устроился в ФСБ: у меня было высшее образование, у меня был военный опыт. Думаю: «Пойду я в ФСБ работать». Стоял и стоял у двери минут пятнадцать, потом думаю: «Нет, не пойду».
Я при этом очень плохо относился к действующей власти, но у меня конфликт с ельцинской властью и всей этой камарильей не выражался в неприязни к государству. Я всегда был готов работать на государство, хотя власть мне была отвратительна. Что-то такое. Стоял, пытался услышать гул собственной судьбы, собственного будущего, надо мне это или не надо. Я ничего не думал, просто залип, как рыба, в ил упадающая. Ушел и не устроился. Сейчас бы полковником был уже.
Что писателю делать с аморфной аудиторией – писать в пустоту? И каков, на ваш взгляд, портрет вашего читателя?
У меня не аморфная аудитория, а боевая, сильная, яркая. И когда я первые свои статьи начал писать в 1996 году, по-моему, в газету «Лимонка» (я был нацболом и сейчас им остаюсь), то очень большое количество национал-большевиков, молодых пацанов, приходило в партию потому, что они читали мои статьи. Были люди, которые читали мои книги, и у них менялось восприятие каких-то вещей, кто-то совершал какие-то жизненные шаги, делал какой-то выбор. Я знаю людей, которые вдруг женились и заводили детей, потому что они читали мои книжки, или шли на войну, или шли работать на какие-то профессии. У меня яркая, страстная аудитория. И никакой пустоты я не чувствую вокруг себя, я чувствую отзывчивое, насыщенное, «мясное» пространство.
Можно ли назвать современных артистов рэпа и хип-хопа наследниками широко развитой в нашей стране поэтической культуры?
Нет, нельзя. Это совершенно другая вещь. Даже самые лучшие, скажем, тексты Хаски, который пишет очень изощренно, не читаются с листа и не предназначены для чтения с листа. Или Андрея Бледного. То же самое касается и Басты. И рок-поэзии. Нет – и все. Даже у «Сплина», который очень хорошо рифмует и понимает, чем он занимается. Понимаете, и Саша Васильев, и Борис Гребенщиков, при всей своей известности, не конкуренты ныне живущим Олегу Чухонцеву, Юрию Кублановскому или Геннадию Русакову. Это великие поэты, и наши рокеры просто рядом не лежали. И они прекрасно это знают, потому что это другая магия. Это гитара, голос, шея, поворот головы, сочетание слов и музыки, припевы, это все – оно только так и действует. Это причем и Вертинский, и Галич. И Высоцкий тоже, простите меня, ради Бога, конечно, не великий поэт, это не Бродский. Это все очень здорово, это все очень сильно действует, но если бы вы немножко в этом понимали, вы бы не сравнивали. Кстати, это я тоже в программе сказал, и за это тоже страшно обиделись.
Высоцкий гениален, он как тип гениален, и как артист гениален, и как фактура, и как судьба. Но это не делает Высоцкого Есениным. Есенин – новатор, Есенин – поэтический гений. Если бы вы немножко понимали, о чем вы говорите, вы бы не спорили на эти темы. Но все говорят: «Ты нашего Володьку обидел. Его миллионы людей любят». Мало ли, что любят миллионы людей. Миллионы людей любят и Розенбаума, он тоже очень хороший, не настолько талантливый, как Высоцкий, но очень хороший. Но Розенбаум не великий поэт, он бард, исполнитель своих песен. И Олег Митяев – бард, исполнитель своих песен. Надо в этом отдавать себе отчет. Если не отдаете себе отчет, то просто доверяйте специалистам.
У нас много очень сильных поэтов. Так как люди стихов не читают, они думают, что стихи – это когда подходите к книжной лавочке, а там стоит Диана Арбенина и Андрей Макаревич. Поэзия – это про другое. Если бы во времена Есенина были шансонье, они тоже соперничали бы с Есениным и Блоком, потому что людям сложно читать стихи, они залипают и не понимают. А когда их им поют, они как-то начинают их слышать. И потом они берут эту книжечку и воспроизводят это пение, читая достаточно банальные, прямо скажем, тексты Андрея Макаревича и тоже не Анны Ахматовой – Дианы Арбениной. Через музыкальную форму происходит адаптация словесного.
Кто из классических поэтов больше всего вписался бы в формат современного хип-хопа? Ваше субъективное мнение? Многие считают, что тот же речитатив Маяковского представляет собой...
Все это чушь собачья, все без конца говорят: «Маяковский, Маяковский…», как будто считая, что Маяковский – это рэп. Любое стихотворение любого русского поэта можно сделать под бит, зачитать. Рич совершенно гениально читает Есенина и Бориса Рыжего. Вовсе не надо для этого Маяковского. Просто люди, когда читают Маяковского, спотыкаются глазами, потому что нет привычки к чтению стихов, и поэтому кажется, что это похоже на рэп, где они тоже спотыкаются. Ничего общего у Маяковского с рэпом нет, и Маяковский – рэпер не больше, чем, скажем, Блок или Бальмонт. Я без проблем сделаю целый альбом рэп-песен на Брюсова или Марину Цветаеву. Вообще без всяких проблем.
Книги, упомянутые в интервью