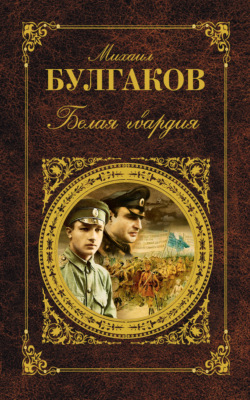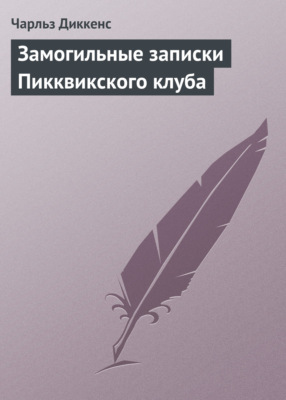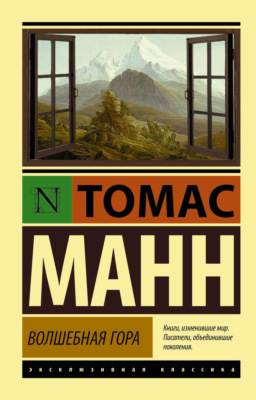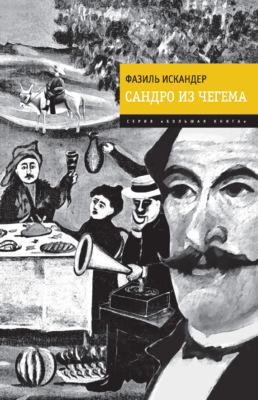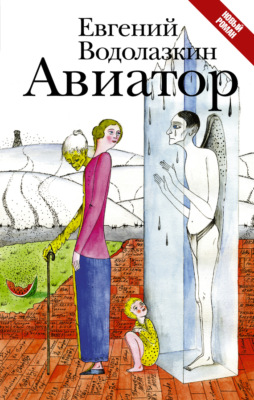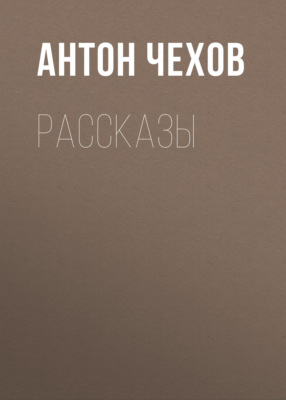Водолазкин интервью
Для проекта «Кофейня ЛитРес» Евгений Водолазкин рассказал о том, зачем нужна литература, чему учит история и о чем рассказывает его новый роман «Брисбен». Беседу вел Владимир Чичирин.
Хочу спросить у вас как у филолога. Почему «Лавр» Водолазкина почти всегда называют именно так – с фамилией?
Я думаю, что «Лавр» звучит само по себе одиноко, как имя в отсутствие фамилии, поэтому, наверное, и прибавляют.
Профессор филологии, специалист по древнерусской литературе, Древняя Русь в книге… за такую книгу может быть страшно браться.
Да, звучит ужасно.
В рецензии стоило бы добавлять, что эта книга легко читается и переполнена иронией.
Я стараюсь писать нескучно.
Кстати, насколько реальны рецепты лекарств на травах, которые упоминаются в книге? Некоторые люди могут захотеть их использовать.
Они реальны, но не дай бог, кто-нибудь что-нибудь по ним приготовит. Все рецепты выписаны из древнерусских травников. Переводчики «Лавра» часто просят уточнить, что за травы, потому что, мол, читатели будут интересоваться. Я отвечаю: «Пишите бегущей строкой: „Не пытайтесь повторить это дома или самостоятельно“». Есть, конечно, безобидные вещи. Например, «чтобы тебя любили женщины, носи магнит». Вряд ли человеку станет плохо от магнита. А вот принимать какие-то сомнительные травы… Я советовался с хорошими врачами относительно этих рецептов, и они говорят, что с точки зрения современной медицины это по большей части нонсенс и лучше не экспериментировать. Поэтому я еще раз, пользуясь случаем, предупреждаю, что ни автор, ни издательство ответственности за последствия не несут.
Какой, кстати, уже тираж?
По-моему, за 150 000.
Что вас вдруг заставило писать художественную литературу? Ведь это требует времени, и вам пришлось отнимать его у науки.
Научные возможности ограничены. Почему? Потому что наука занимается рациональным и не выходит за его пределы. А человек состоит не только из мыслей, но и из чувств. Из эмоций, нервов, ругани, любви и так далее. И все это наука не передает, а литература передает. Поэтому мне захотелось перейти к следующей ступеньке.
Много ли нынче получают ученые-филологи?
Много ли? Вы сейчас держитесь за стул. Доктор наук получает 26 000.
Как коллеги относятся к славе, к явному увеличению дохода, к вашим произведениям?
Вообще, ко всяким новостям люди привыкают с трудом. Но у меня очень хорошие коллеги. И в принципе в Пушкинском Доме хорошая атмосфера. В конце концов, я занимаюсь не чем-то посторонним – я занимаюсь той же литературой, просто после многих лет изучения литературы я стал ее производить. Что касается дохода, то, помимо зарплаты, есть еще система грантов. Но она несовершенна, потому что грант выдают на то, что ты делаешь сверх плановой научной работы. Значит, если человек получает большой грант, то у него выходит маленькое основное задание. В общем, в этой сфере царит полная неразбериха. Если люди в верхах хотят, чтобы наука работала, надо платить, это банально. Пока наша наука работает за счет энтузиазма. Если мы хотим занимать какое-то ведущее место в мире, мы должны платить науке, причем не только той, которая дает немедленный результат. Дело в том, что если не развивать литературу, то и ракеты не полетят. В Верхней Вольте можно построить ракетную промышленность, но от этого не будет толка, потому что там нет Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Успехи страны – это результат совокупного действия разных факторов. И культура – не бесплатное приложение к экономике. Это то, что, собственно говоря, развивает экономику.
«Лавр» стал победителем «Большой книги», получил первую премию. Вы своих коллег решили добить – написали следующий роман, «Авиатор», который тоже оказался очень успешным и тоже получил «Большую книгу». Может быть, у вас есть какая-то схема? Чем это объясняется, с вашей точки зрения?
Я знаю людей, которые хотят понравиться жюри «Большой книги». Им кажется, что они должны писать в мейнстриме, поэтому они анализируют, какие романы получили премии: «Может быть, так надо писать». Но когда ты начинаешь писать под премию, во-первых, ты теряешь свое, во-вторых, премию в таких случаях не дают, потому что ты ориентируешься все равно на вчерашний день, а не на сегодняшний. Мне Валерий Попов, замечательный питерский писатель, сказал однажды: «Когда вы писали „Лавр“, вы стреляли по невидимой цели, а по видимой стрелять уже поздно». Человек должен просто чувствовать движение литературы, то, что будет интересно завтра. Была такая забавная история. Когда «Лавр» уже оказался в шорт-листе «Большой книги», один критик мне сказал: «Ты никогда не получишь „Большую книгу“, потому что это мейнстримная премия, а „Лавр“ – не мейнстрим». После вручения мне премии я снова его встретил, и он сказал: «Да, я знаю, что ты получил премию. Мейнстрим изменился».
Я так и думал, да. Что касается «Авиатора», мне почему-то кажется, что он-то как раз уже был направлен в цель. Чтобы получить премию вроде «Большой книги», у книги должно быть несколько составляющих – или все они, или хотя бы часть. Во-первых, все должны умереть, во-вторых, должны быть Соловки или ГУЛАГ, на крайний случай – Великая Отечественная война. В-третьих, нужно издаваться в редакции Елены Шубиной. У «Авиатора» есть весь этот набор.
Да. Там и Соловки, и все остальное. Но по поводу Соловков у меня есть в некотором роде алиби. Дело в том, что до этого я выпустил огромную книгу-альбом о Соловках, где при помощи сотрудников Соловецкого музея собрал все свидетельства о них, от монастырского периода до лагерного. Она называется «Часть суши, окруженная небом». У меня мозги в трубочку сворачивались от всех этих описаний пыток – не только лагерных, но и пыток XVIII века, когда была безжалостная осада Соловков царскими войсками, а потом расправлялись с монахами, отказавшимися покинуть монастырь. Это все было во мне, как-то бродило и не давало покоя. Это был мой жизненный опыт, потому что когда к чему-то очень серьезно относишься, то опыт, который воспроизводишь, становится твоим собственным.
Кстати, изначально я не собирался включать в книгу Соловки, эта идея потом возникла. Мне нужен был человек, который пережил что-то и с этим своим особенным опытом попадает в иную среду. Главный конфликт и фишка романа не в Соловках, а в том, что человек не сможет быть дома в другом времени: он создан для своего времени, своей среды, и никакие другие варианты невозможны. Вообще, это история о вселенской тоске... Вот как можно передать, например, страх смерти, страх небытия? Набоков написал так: «Раковинный гул вечного небытия». Когда к уху подставляешь раковину, вот этот гул. Фантастическое… А я пытался таким фантастическим образом передать чувство жути и одиночества человека вообще, а особенно когда он выходит из своего социума, из привычной среды, и попадает в другую. Для этого не обязательно шестьдесят лет лежать в азоте, это просто образ. Так и возникли Соловки в тексте.
Я, честно говоря, боюсь читать книги о чем-то подобном. И когда читаю описания сцен пыток, страданий, мне всегда интересно: что думает писатель, когда это пишет? Что он испытывает?
Не бойтесь читать книги о Соловках и концлагерях. Если это хорошая литература, она не об этом, а о человеке.
Вообще, я чувствую себя очень плохо, когда пишу физиологические сцены, сцены родов и подобные им. Меня и после «Лавра» об этом спрашивали: «Ну зачем? У вас что, специальный вкус к ужасному? Вы садист?» И так далее. Я отвечаю так: «Нет, я так же, как все остальные, чувствую эту боль и испытываю отвращение, но без этой сцены в „Лавре“ непонятно, почему крыша у человека съехала». Если просто рассказать: «Ах, неприятность получилась, так вот вышло», – тогда непонятно, почему его колбасило всю жизнь так, почему он ходил в Иерусалим, почему ходил по Руси, в Псков и так далее. Понимаете, можно взять статистику расстрелов в сталинское время, прочитать и сказать, что вы всё знаете об этом. И это будет правдой в известном смысле. Но одно дело – статистика, другое дело – эмоция. Литература создана для того, чтобы будить... то есть не для того, чтобы будить, у нее много задач, но среди прочих есть и эта.
Вы специально избегаете писать про сегодня? Почему не пишут? Большинство известных писателей, говоря про злободневные темы, все равно обращаются к иным местам и временам, пытаются как-то завуалировать свое высказывание.
Вы знаете, роман, который я в конце этой недели отправляю Елене Шубиной, оканчивается 2018 годом. Так что это до некоторой степени ответ.
Другое дело, что неслучайно люди не пишут о своем времени. Дело в том, что нужна дистанция. Например, публицистике и журналистике не нужна дистанция: ей чем ближе, тем лучше. Что-то произошло, еще не успело произойти – об этом уже пишут. Литература же – это дальнобойное орудие, ему требуется какое-то пространство и, главное, время. И обычно вещи, которые говорят о текущей современности, неинтересны уже через пару лет. А главное, они не метафизичны: слишком погружаются в детали, растворяются в них, и вся метафизика уходит. Я знаю кучу людей, которые не пишут о современности, но ругают все, что считают нужным ругать, и всех, кого считают нужным ругать. То есть это не от страха. Это от нежелания сливаться с действительностью. Литература всегда должна быть чуть на расстоянии, если хотите – чуть выше действительности. Литература должна быть этим авиатором. Когда она садится на аэродром, она превращается в одну из многих земных вещей, становится наравне с ангаром, сараем, стадом телят и прочим. А пока авиатор в воздухе, он другой и на него все смотрят.
Скажите, вы считаете, что история чему-то людей все-таки учит?
Как изложение событий она ничему не учит, потому что для того, чтобы все повторилось, надо, чтобы сошлись те же люди, с тем же настроением, тем же завтраком в желудке и теми же целями. Но как такое может быть? Уже через минуту цели у всех становятся разными. А через сто лет? А через двести? В этом смысле история ничему не учит. История показывает, как не надо поступать или как надо поступать, в персональном измерении. Она ничему не учит в том измерении, где единица – народ, государство. Но история учит там, где единица измерения – это человек.
А как вы относитесь к «Истории России» Бориса Акунина?
Акунин – это человек, который очень хорошо пишет. И я думаю, что задачу, которую он ставил, он выполнил. Он ведь сказал, что он не историк и дилетант, смотрит на историю особым взглядом – взглядом того, кто ее не знает, сейчас узнал и пытается изложить, как он понял. И это тоже нужно, потому что безжалостно человека сразу тащить на какие-то высоты, надо показать, что с его уровня можно постепенно подниматься. В общем, я считаю, что многотомная «История…» Акунина – это вещь полезная, учитывающая взгляды людей, которые в истории, скажем так, гости. Ему понятно их беспокойство, их возможные вопросы, поэтому акценты в этой книге по-особому расставлены. Я оцениваю положительно.
Можно ли, с вашей точки зрения, сформировать некую единую оценку каких-то исторических фактов хотя бы в масштабах одной страны?
Пока существуют различия интересов, эмоций, энергетики людей, до тех пор никакой общей истории не будет. Будут какие-то отдельные точки, по которым консенсус будет найден, – точки, значимые для государства и народа. Даже если кто-то не согласен с этими трактовками, когда, допустим, 90% населения страны их разделяет, он не станет выступать против них открыто. Но в целом единой трактовки не может быть просто по определению.
Когда вы пишете, какая у вас установка, что вы хотите дать читателю? Можно ли назвать интеллектуальную литературу развлечением, или нужно другое слово?
Развлечение тоже может быть разным, даже если брать пределы так называемого условного спорта: есть развлечения в городки играть, а есть – в шахматы. Есть развлекательная литература, и тогда термин вполне соответствует. Если вы читаете детективы, фэнтези, лавбургеры и так далее, это развлечение. Но когда вы берете какие-то более сложно организованные вещи, вы должны быть готовы к тому, что это развлечение отличается от городков и даже от шахмат.
Уходя от сложного своего мира и своей работы, нельзя играть на понижение, нельзя садиться за стрелялку. И если вы говорите, что читаете серьезные книги, значит, речь идет не о развлечении. Это – отвлечение, это – переключение.
Но верите ли вы, что книга чему-то учит, что она способна изменить человека?
А жизнь меняет человека?
Наверное, да.
Литература – это отраженная жизнь. Литература должна показывать и называть. Что такое литература? Это отъедание у тайны еще одного кусочка, отъедание от непознанного, описание неописанного. Для чего? Таким образом это неописанное становится доступным для языка. О том, что называешь, можно говорить. О том, что не названо, ни говорить, ни думать нельзя.
Вспомним, что Михаил Бахтин писал о Достоевском. Достоевский «изобретает», развивает так называемый полифонический роман – и это открытие для всего мира, для мировой литературы. У него каждый герой говорит своим голосом, и над героем не стоит никто, кто бы его поправлял и говорил бы, прав он или неправ. Это определяется в голове читателя. Десять тысяч мнений дает Достоевский в «Братьях Карамазовых» – разбирайся. Кому-то ближе Иван Карамазов, кому-то Алеша, кому-то еще, может быть, кто-то. Некоторые думают: «Да, философия», – когда речь идет о том, что ад – это ведь когда крючьями тащат, а если нет крючьев (а крючьев нет), то, значит, нет и ада. И для кого-то это, в общем-то, правильное рассуждение. Хотя Достоевский, как мы понимаем, считал, что крючья метафизические. Или, например, величайший текст о Великом инквизиторе. Первосвященник говорит: «Вы предлагаете теории, а мы предлагаем хлеб; что может быть бесспорнее хлеба? Голодные, умирающие люди, зачем им нужно это все? Мы говорим: „Слушайте нас – будете иметь хлеб“». И я уверен, что для многих людей это очень убедительное доказательство. Зачем теории совершенствования и обожествления, когда нет хлеба? Хлеб – это бесспорная истина. Так что в книге каждый ищет свое, и это хорошо, потому что качественное произведение отражает мир во всей его сложности, а не является агиткой или призывом к чему-то.
Не могу все-таки не спросить. Вы упоминали, что уже сдаете очередной роман. Когда его ждать и о чем он, если это не секрет?
Не секрет. Называется он «Брисбен». Это город в Австралии, названный в честь генерал-губернатора Брисбена. Личность известная. Он в свободное время занимался астрономией и открыл, на минуточку, 7000 звезд. Но речь там не о нем. И даже не о Брисбене. Брисбен – это символ мечтаний, которые помещаешь где-то на другом конце земли. Тебе кажется, что доберешься до Брисбена – и все уладится, все будет в полном порядке. А на самом деле до Брисбена никто не добирается.
Это роман о музыканте, который в какой-то момент из-за болезни теряет способность играть. Ему нужно искать новый смысл жизни. А у него всегда смысл жизни был в том, чтобы стремиться вверх: жизнь как бы шла по нарастающей, он достиг верхнего «фа» и вдруг на нем сломался и упал. И где смысл жизни, если его так легко погасить, просто взять, как свечку, и затушить? А смысл, оказывается, в том, что значение имеет каждая клеточка его жизни. Нет верхней точки, есть жизнь в целом, и вот это ее смысл. И биографу своему он отказывается рассказывать про период, когда стал знаменит. Он рассказывает только то, что было до этого, он говорит: «Тогда я был жив, и только это значимо. То, что получилось потом, – это мой медийный образ, это ко мне лично не имеет никакого отношения». И дальше: «Время успеха – это не время моего развития. Время моего развития – тогда, когда я голодал...» Ну, не голодал, это 70-е годы, время его юности. Хотя есть разные точки зрения на взаимосвязь голодного детства, условно говоря, счастья в нем и, так сказать, процветающей старости. Знаете, на меня в свое время произвела впечатление автобиография Чаплина. Он сказал: «Я читаю мемуары, и всегда пишут, мол, „добру меня научило мое голодное детство на помойке, и, когда я стал богатым, я не ожесточился: я помню об этом детстве“. У меня все наоборот: когда я был голодным, я был ужасно злым. Добрым я стал, когда разбогател».
Так вот, судя по всему, что вас беспокоит. Как-то я прямо чувствую, что вы про свои беспокойства написали.
Нет, нет. Я, к сожалению, не разбогател, поэтому мне приходится быть добрым просто так.
Книги, упомянутые в интервью