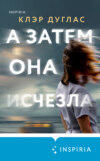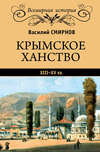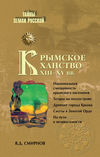Kitobni o'qish: «Аксаковы. Их жизнь и литературная деятельность»

С.Т. Аксаков

И.С. Аксаков
Глава I. Московский кружок славянофилов
«Славянофильство или руссицизм не как теория, не как учение, а как оскорбленное народное чувство, как темное воспоминание и массовый инстинкт, как противодействие исключительно иностранному влиянию существовало со времени обрития первой бороды Петром Великим».
Противодействие петербургскому «объевропеиванию» России никогда не перемежалось; казненное, четвертованное, повешенное на зубцах Кремля и там простреленное Меншиковым и другими царскими «потешными» в виде буйных стрельцов; убитое в равелине петербургской крепости в лице царевича Алексея, оно – это противодействие – является как партия Долгоруких при Петре II, как ненависть к немцам при Бироне, как разнузданная брань гениального Ломоносова, как сама Елизавета, опиравшаяся на тогдашних славянофилов, чтобы сесть на престол: ведь народ в Москве ждал, что при ее короновании выйдет приказ избить немцев. Все раскольники – славянофилы по настроению. Солдаты, требовавшие смены Барклая-де-Толли за его немецкую фамилию, были предшественниками Хомякова и его друзей.
Война 1812 года сильно развила чувство народного сознания и любви к родине, но патриотизм 1812 года не имел старообрядчески-славянского характера. Мы его видим в Карамзине и Пушкине, в самом императоре Александре. Практически он был выражением того инстинкта силы, который чувствуют все могучие народы, когда их задевают чужие; потом это было торжественное чувство победы, гордое сознание данного отпора. Но теория его была слаба; для того чтобы любить русскую историю, патриоты перекладывали ее на европейские нравы; они вообще переводили с французского на русский римско-греческий патриотизм Корнеля и Расина и не шли далее стиха:
Pour un coeur bien ne, gue la patrie est chere!
Как дорого отечество для благородно рожденного сердца!
Правда, Шишков бредил уже и тогда о восстановлении старого слога, но влияние его было ограничено. Что же касается до настоящего народного слога, то его знал один офранцуженный граф Растопчин, да и тот частенько перевирал его, преобразовывая в «балаганный стиль».
По мере того как война забывалась, патриотизм этот утихал и выродился наконец, с одной стороны, в подлую циническую лесть «Северной пчелы», с другой – в пошлый загоскинский патриотизм, называвший Шую Манчестром, Шубуева – Рафаэлем, хваставший штыками и дистанцией огромного размера «от стен Кремля до стен Китая»…
Только при императоре Николае славянофильство из настроения обратилось в доктрину, теорию. В этом многое было повинно, и прежде всего режим николаевского царствования. Удивительное время!
«Создалась, – говорит г-н Любимов, большой сторонник Каткова и „Московских ведомостей“, – правительственная система, с которой не мог примириться ни один независимый ум, прилаживаться к которой свободная мысль могла, лишь заглушая себя, скрываясь, побеждая себя, сосредоточивая внимание на светлых сторонах и закрывая глаза на темные, удовлетворяясь довольством личного положения, лицемеря вольно или невольно, чтобы не прать против рожна».
«Государственная идея, высокая сама по себе и крепкая в державном источнике ее, в практике жизни приняла исключительную форму „начальства“. Начальство сделалось все в стране. Все Кесареви, – Богови оставалось весьма немного. Все сводилось к простоте отношений начальника и подчиненного. Губернатор, при какой-то ссылке на закон, взявший со стола том свода законов и севший на него с вопросом: „где закон?“, был лицом типическим, в частности, добрым и справедливым человеком».
«В то время, – продолжает г-н Любимов, – купец торговал, потому что была на то милость начальства; обыватель ходил по улице, спал после обеда в силу начальственного позволения; приказный пил водку, женился, плодил детей, брал взятки по милости начальнического снисхождения. Воздухом дышали, потому что начальство, снисходя к слабости нашей, отпускало в атмосферу достаточное количество кислорода. Рыба плавала в воде, птицы пели в лесу, потому что так разрешено было начальством. Начальник был безответственен в отношениях своих к подчиненным, но имел, в тех же условиях, начальство и над собою. Для народа, несшего тяготы и крепостных, и государственных повинностей, с включением тяжкой рекрутчины, то было время нелегкой службы. Военные люди как представители дисциплины и подчинения имели первенствующее значение, считались годными для всех родов службы. Гусарский полковник заседал в синоде в качестве обер-прокурора. Зато полковой священник, подчиненный обер-священнику, был служивый в рясе, независимый от архиерея… Всякая независимая от службы деятельность человека считалась разве только терпимой при незаметности и немедленно возбуждала опасение, как только чем-либо ясно обнаруживалась… Телесные наказания считались главным орудием дисциплины и основой общественного воспитания. От учения требовали только практической пригодности, наука была в подозрении. С 1848 года преследование независимости во всех ее формах приняло мрачный характер».
При таких обстоятельствах, при такой тягости жизни почва для утопий, для всяческих мечтаний готова. Славянофилы не замедлили выдвинуть на сцену свою утопию, свои мечтания, что было им так же необходимо, как глоток свежего воздуха задыхающемуся человеку. Обстоятельства заставили их организоваться, сплотиться и подыскать философские подпорки для своих вожделений.
Летом 1836 года в одном из журналов того времени появилось знаменитое письмо Чаадаева. «Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, – все равно надо было проснуться».
Что, кажется, значат два-три листа, помещенных в ежемесячном обозрении? А между тем, такова сила речи сказанной, такова мощь слова в стране мечтаний, непривыкшей к свободному говору, что письмо Чаадаева потрясло всю мыслящую Россию. Оно имело полное право на это. «После „Горя от ума“ не было ни одного литературного произведения, которое сделало бы такое сильное впечатление. Между ними – десятилетнее молчание. Мысль исподволь работала, но ни до чего не доходила. Говорить было опасно, да и нечего было сказать; вдруг тихо поднялась какая-то печальная фигура и потребовала речи для того, чтобы спокойно сказать: „lasciate ogni speranza“.1
«Со второй, третьей страницы письма, – говорит современник, – меня остановил печально-серьезный тон: от каждого слова веяло долгим страданием, уже охлажденным, но еще озлобленным. Так пишут только люди, долго думавшие, много думавшие и много испытавшие в жизни… Читаю далее – письмо растет, оно становится мрачным обвинительным актом, протестом личности, которая за все вынесенное хочет высказать часть накопившегося на сердце».
«Каждый чувствовал тяготу. У каждого было что-то на сердце и все-таки все молчали, наконец пришел человек, который по-своему сказал – что. Он сказал только про боль, светлого ничего нет в его словах, да нет ничего и во взгляде. Письмо Чаадаева – безжалостный крик боли и упрека петровской России, она имела право на него; разве эта среда жалела, щадила автора или кого-нибудь?
«Разумеется, такой голос должен был вызвать против себя оппозицию, или он был бы совершенно прав, говоря, что „прошедшее России пусто, настоящее невыносимо, а будущего для нее вовсе нет, что „это пробел недоразумения, грозный урок, данный народам – до чего отчуждение и рабство могут довести“. Это было покаяние и движение. Оно и не прошло так. На минуту все, даже сонные и забитые воспрянули, испугавшись зловещего голоса. Все были изумлены, большинство было оскорблено, человек десять громко и горячо аплодировали автору“.
История России – грозный урок, данный народам, «до чего отчуждение и рабство могут довести», – такова основная мысль Чаадаева. Искренняя, выстраданная, она, однако, несправедлива до резкости, до обиды. Комментируя ее, Чаадаев говорил: «в Москве каждого иностранца водят смотреть большую пушку и большой колокол. Пушку, из которой стрелять нельзя, и колокол, который свалился прежде, чем зазвонил. Удивительный город, где достопримечательности отличаются нелепостью; или, может быть, этот большой колокол без языка – иероглиф, выражающий эту огромную немую страну, которую заселяет племя, назвавшее себя славянами, как бы удивляясь, что имеет слово человеческое»…
Нельзя было оставить без отпора такое неуважение. Чаадаев и славянофилы равно стояли перед неразгаданным сфинксом русской жизни; они равно спрашивали: «что же будет? Так жить невозможно; тягость и нелепость окружающего очевидно невыносима – где же выход?»
«Его нет», – отвечает человек петровского периода, исключительно западной цивилизации, веривший при Александре I в европейскую будущность России. Он печально указывал, к чему привели усилия целого века: образование дало только новые средства угнетения, народ стонет под игом, горшем прежнего. «История других народов, – говорит он, – повесть их освобождения. Русская история – развитие крепостного состояния». «Переворот Петра сделал из нас худшее, что могло сделать из людей, – просвещенных рабов. Довольно мучились мы в этом тяжелом, смутном нравственном состоянии, непонятые народом, отшатнувшиеся от него, – пора отдохнуть, пора свести в свою душу мир, прислониться к чему-нибудь». Это почти значило: «пора умереть», и Чаадаев «прислонился» к католицизму.
Славянофилы решили вопрос иначе.
В их решении лежало верное сознание живой души в народе, чутье их было проницательнее их разумения. Они поняли, что современное состояние России не смертельная, а лишь временная болезнь. И в то время как у Чаадаева слабо мерцает возможность спасения лиц, а не народа, у славянофилов явно проглядывает мысль о гибели лиц, захваченных современной эпохой, и вера в спасение народа – его будущность.
«Выход за нами, – говорили славянофилы, – выход – в отречении от петербургского периода, возвращение к народу, с которым разобщило иностранное образование: воротимся к прежним, допетровским нравам».
Верное хорошее настроение воплотилось в странную форму. История не возвращается: жизнь богата тканями, ей никогда не бывают нужны старые платья. Все восстановления, все реставрации были всегда маскарадами: ни легитимисты не возвратились ко временам Людовика XIV, ни республиканцы – к 8 Термидору. Случившееся стоит писанного, его не вырубишь топором… хотя бы самой гильотины.
Нам, сверх того, и не к чему возвращаться. Государственная жизнь допетровской России была уродлива, бедна, дика, – а к ней-то и хотели славянофилы возвратиться, хотя они и не признаются в этом: как же иначе объяснить все археологические воскрешения, поклонение нравам и обычаям прежнего времени и сами попытки возвратиться не к современной одежде крестьян, а к старинным неуклюжим боярским костюмам. И что это за ненависть к фракам и брюкам немецко-парижского покроя? Во всей России, кроме славянофилов, никто не носил мурмолок. К. С. Аксаков оделся так «национально», что народ на улицах принимал его за персиянина, как рассказывает, шутя, Чаадаев.
Мурмолки и персидские кафтаны должны были набрасывать тень на все славянофильские теории. Эта тень по необходимости сгустилась, когда узкий, назойливый, даже наглый, национализм нашел себе убежище и радушный прием в славянофильском лагере.
«Так, например, в конце тридцатых годов был в Москве проездом панславист Гай. Москвитяне верят вообще всем иностранцам; Гай был больше чем иностранец, он был „наш брат“ славянин. Ему, стало быть, нетрудно было разжалобить наших славян судьбою страждущих и православных братии в Далмации и Кроации; огромная подписка была сделана в несколько дней, и сверх того Гаю был дан обед во имя всех сербских и русняцких симпатий. За обедом один из нежнейших по голосу и по занятиям славянофилов, человек красного православия, – К. Аксаков, – разгоряченный, вероятно, тостами за черногорского владыку, за разных великих босняков, чехов и словаков, импровизировал стихи, в которых было следующее «не совсем» христианское выражение:
Упьюся я кровью мадьяров и немцев…
Все неповрежденные с отвращением услышали эту фразу. По счастью, остроумный статистик Андросов выручил кровожадного певца; он вскочил со своего места, схватил десертный ножик и сказал: «Господа, извините меня; я вас оставлю на минуту; мне пришло в голову, что хозяин моего дома, старик настройщик Диз, – немец; я сбегаю его прирезать и сейчас же возвращусь». Гром смеха заглушил негодование».
Письмо Чаадаева заставило славян организоваться. В начале 40-х годов они были в полном боевом порядке со своей легкой кавалерией под начальством Хомякова и чрезвычайно тяжелой пехотой Шевырева и Погодина, со своими застрельщиками, охотниками, ультраякобинцами, отвергавшими все бывшее после киевского периода, и умеренными, отвергавшими только петербургский период; у них были свои кафедры в университете, свое ежемесячное обозрение, как бы символически выходившее всегда двумя месяцами позже, чем следовало, но все же выходившее. При главном штабе состояли православные гегелианцы, византийские богословы, мистические поэты, множество женщин и пр., и пр. По всей линии происходили ожесточенные стычки с западниками. Эти постоянные, через день повторявшиеся стычки очень интересовали литературные салоны в Москве. Надо заметить вообще, что Москва входила тогда в ту эпоху возбужденности умственных интересов, когда литературные вопросы, за невозможностью политических, становятся вопросами жизни. Появление замечательной книги, например «Мертвых душ», составляло событие. Критики и антикритики читались и комментировались с тем вниманием, с каким, бывало, во Франции или Англии следили за парламентскими прениями. Подавленность всех других сфер человеческой деятельности бросала образованную часть общества в книжный мир и в нем одном действительно совершался глухо и полунамеками протест против тяготы жизни. В лице западников, и Грановского по преимуществу, московское общество приветствовало рвавшуюся к свободе мысль Запада, – мысль умственной независимости и борьбы за нее. В лице славянофилов оно протестовало против оскорбленного чувства народности.