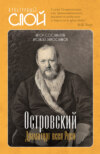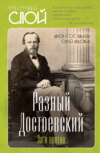Kitobni o'qish: «Советский Пушкин»

© Замостьянов А.А., 2023
© ООО «Издательство Родина», 2023
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Приключения Пушкина в СССР
В 1937 году в Советском Союзе произошло немало знаковых событий. Началась папанинская экспедиция, рекордные трансарктические перелеты в США совершили экипажи Валерия Чкалова и Михаила Громова. Но среди «будней великих строек» вовсе не затерялся и великий поэт. Вся страна отметила 100-летие гибели А.С.Пушкина. Не праздновала (поскольку дата трагическая), а именно отметила. И этот фестиваль продолжался целый год. А начался заранее. В 1933 году Академия наук разработала программу памятных мероприятий. 16 декабря 1935 года начал работу Всесоюзный Пушкинский комитет во главе с основоположником советской литературы – А.М. Горьким.
«Творчество Пушкина слилось с Октябрьской социалистической революцией, как река вливается в океан», – писала в те дни «Правда». Художники Ломоносовского завода приступили к росписям ваз и сервизов профилем великого поэта, а также сценами из его жизни. Вышивальщицы с Украины украсили пушкинскими мотивами свои вышивки. Холмогорские резчики вырезали из кости мамонта броши и трубки с изображением Пушкина… В честь Пушкина проходили митинги и театрализованные шествия. В музее-заповеднике «Михайловское» состоялся пятитысячный митинг, на котором председатель колхоза имени Пушкина произнес следующие слова: «Стихи Пушкина помогают нам жить и весело работать… Все это происходит оттого, что у нас наша советская власть, что живем мы под руководством любимого товарища Сталина».
Либеральные фантазёры в ужасе: ишь, что придумали большевики! Не день рождения, а день гибели Пушкина превратили в торжество… Но это не советская, а куда более старинная традиция! Дату смерти великого человека, как правило, можно определить с точностью, а дни рождения многих наших гениев покрыты мраком… В 1887 году Россия отмечала пятидесятилетие дуэли Пушкина. Советская власть эту традицию подхватила, приспособила для народного просвещения. Установила и другую традицию – широко отмечать дни рождения и юбилеи великих людей земли русской и корифеев мировой культуры. И «круглые даты» со дня рождения Пушкина после этого отмечались не менее широко. «Пушкин наш, советский, ибо советская власть унаследовала все, что есть лучшего в нашем народе», – подчеркивала пресса. Улицы и площади городов к юбилеям поэта украшались в пушкинском духе. До войны вышло два художественных фильма, посвященных Пушкину – «Поэт и царь» и «Юность поэта». Оба прошли с шумным успеха. А потом, на фронте, оба исполнителя роли поэта, погибли как герои…
Классическая литература в СССР не была увлечением узкого круга ценителей, жрецов и гурманов словесности. Книги Пушкина – и простенькие детские, и академические издания – в тот год появлялись повсюду, а их тиражи постоянно увеличивались. В те дни на постаменте московского памятника Пушкину появились истинные строки поэта, а не те, что написал Жуковский по требованию царской цензуры. И все увидели, что пророчество поэта сбылось и «Не зарастёт народная тропа» к его наследию. Именно в 1937-м Пушкин стал достоянием миллионов, «любезным народу».
Принято обманываться, что до 1937 года Пушкин в СССР был чуть ли не опальным классиком. Не стоит преувеличивать крайне левый уклон, присущий революционному искусству в первые годы после Октября. Да, его пробовали сбросить «с парохода современности». Да, историк Михаил Покровский называл поэта «идеологом дворянства». Да, его монархические мотивы подвергались критике – подчас грубоватой. Да, многие поэты и художники левого фронта считали, что поэт, которого называли «нашим всем», устарел. Но восхищались Пушкиным больше – и издавали его после 1917 года изобильно. И более влиятельна, чем любая критика, была другая точка зрения, другая эмоция:
Я мстил за Пушкина под Перекопом.
Я Пушкина через Урал пронёс.
Я с Пушкиным шатался по окопам,
Покрытый вшами, голоден и бос.
И сердце колотилось безотчётно,
И вольный пламень в сердце закипал,
И в свисте пуль, под песней пулемётной
Я вдохновенно Пушкина читал! —
писал Эдуард Багрицкий, ярчайший революционный поэт, который не сомневался, на чьей стороне был бы Пушкин в Гражданской войне. И не забудем, что уникальный музей-заповедник Пушкин в Михайловском был создан в непростом 1922 году.
Одна из важнейших сторон советской системы – постоянное стремление к просвещению. И не к элитарному, а к массовому, которое, говоря по чести, только и имеет смысл. Дело не только в ликбезах. Такого не было ни до 1917 года, такого нет после 1991-го. Именно поэтому Пушкина в Советской России никогда не воспринимали как классового врага. Идея применить к нему всю линейку суровых санкций «вульгарного социологизма» всегда оставалась на обочине советской цивилизации, а с середины 1920-х стала просто неприличной.
Словом, в СССР никто и никогда Пушкин не запрещал. Напротив, широко публиковались его вещицы (в том числе варианты), которые трудненько было напечатать до 1917 года. И все-таки до поры, до времени для многих «неистовых ревнителей» революционного искусств Пушкин казался сомнительным: все-таки аристократ, царский камер-юнкер… Но к 1937 году после революционных бурь настало время «освоения классического наследия». Нужно было взять из прошлого всё лучшее и обогатить им советскую жизнь. А все лучшее – это и есть Пушкин. Конечно, в советской традиции подчеркивались оппозиционные и даже революционные настроения Пушкина (вполне достоверные) и редко вспоминалось его «охранительство». Впрочем, серьезные ученые вполне объективно исследовали все противоречивые грани судьбы и идеологии поэта. И – отметим – насколько советский взгляд на Пушкин точнее «великодержвного», при котором Пушкин превращается в эдакого жандарма русской литературы, несгибаемого монархиста. А Пушкин – вольнолюбивый, ироничный – даже к некоторым милостям императора Николая I относился не без иронии. И видел, что в императоре «много от прапорщика и немного от Петра Великого». Сегодня от этих слов Пушкина пытаются спрятаться, а их спрятать от нас. Не вписываются они в миф о «певце самодержавия». Пушкин куда сложнее, тоньше. И в придворном мире он оставался неуправляемым – по меркам того времени. Причем, его в последние годы жизни не устраивала и молодая аристократическая поросль, шуточки и интриги которой и довели его до дуэльного тупика.
Некоторые стихи Пушкина на удивление точно вписывались в советскую жизнь, даже приобретали дополнительный смысл. Например, не раз на плакатах появлялась пушкинская строка, посвященная лицейской дружбе: «Друзья мои, прекрасен наш союз!» Но ведь это – и про Советский Союз! Так и хочется и у Пушкина написать это слово с большой буквы.
Конечно, на первый план вышла вольнолюбивая, революционная лирика Пушкина. А это – мощные стихи!
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
Как это по-советски сказано… Раз – и навсегда. В советские времен эти строки знали назубок даже двоечники. В пушкинском наследии можно найти немало предвидений будущей советской власти, с ее стремлением к справедливости и дружбе народов. И слово «товарищ» здесь совсем не случайно!
В зрелом СССР – с конца 1920-х годов – процветала пушкинистика. В этой области гуманитарной науки могли проявить себя настоящий интеллигенты – независимо от происхождения. Там допускалась дискуссия – иногда даже публичная. До 1960-х – несколько политизировнная, но научно отточенная. И, говоря по чести, замечательная. Прежде всего – своей связью с читателями, для которых Пушкин был настоящим божеством, в котором – и мечта о свободе, и грезы о «любви, надежде, тихой славе», и путеводная нить между прошлым и будущим.
Пушкин органично вошел в советскую цивилизацию – как памятник поэту, созданный Михаилом Аникушиным во дворе ленинградского Михайловского дворца. Пожалуй, лучший из памятников поэту. Он стал всенародной святыней – именно в советские времена. Любовь к поэту – конечно, у нее были разные оттенки – объединяла академиков и рабочих, людей старого воспитания и советских школьников, пионеров и комсомольцев. Он стал советским человеком, он присутствовал вместе с нами в каждом доме, в каждом школьном классе.
Закономерно, что открывает этот сборник Анатолий Васильевич Луначарский – архитектор советской культуры, зодчий системы просвещения, равной которой нет и теперь уж точно не предвидится. Больше всего политики – в труде Валерия Кирпотина, который вышел в том самом 1937-м. А завершает наш сборник мудрый классик Дмитрий Благой – тоже истинно советский человек и, в известной степени, филолог номер один.
Советский Пушкин? Будем знакомы! Это гениальный поэт и интересный феномен.
Арсений Замостьянов,
заместитель главного редактора
журнала «Историк»
Анатолий Луначарский
Александр Сергеевич Пушкин

Классик номер один
Мысль ежегодно праздновать пушкинский день – хорошая мысль, ибо значение Пушкина для русской литературы и русского народа неисчерпаемо.
Конечно, ни на одну минуту нельзя сомневаться в огромности гениального дарования Пушкина, но дело не только в этой огромности дарования.
«Не родись богат, – говорит русская пословица, – а родись счастлив». Ее можно перефразировать так: родись гениальным, но в особенности родись вовремя.
Тэн утверждал, что литература определяется расой, климатом и моментом, как будто бы даже стирая таким образом личность. Гёте в предисловии к своей автобиографии говорит: «Родись я на двадцать лет раньше или позже, я был бы совсем Другой». И мы, марксисты, говорим нечто подобное. Мы утверждаем, что личность, по крайней мере в весьма и весьма значительной мере, является отражением своего времени. Конечно, большое время может получить отражение только в боль – том человеке. Можно представить себе подходящую эпоху без подходящего человека (хотя это и редко бывает, ибо в среднем талантливость человечества одинакова во все времена). В этом случае мы имели бы многосодержательного поэта, формально несовершенного. Можно себе представить (и это часто бывает) очень большое дарование в эпоху безвременья. Тогда мы имеем очень большое формальное совершенство при пустоте содержания.
Но читатель скажет: да разве эпоха Пушкина была эпохой великой? Да разве она была эпохой счастливой? Трудно представить себе эпоху более тусклую, и Пушкин метался в ней, страдал, рвался за границу, погиб полусамоубийством, запутанный в сетях самодержавия, бездушного света, отвратительных литературных нравов и т. д. и т. п.
Все верно. То было ранней весной, такою ранней, когда все было покрыто туманом, талым снегом, когда в воздухе с необыкновенной силой множились и роились болезнетворные микробы, – ветреной, серой, грязноватой весной. Но те, которые пришли раньше Пушкина, не видели весеннего солнца, не слышали журчанья ручьев, не оттаяли их сердца. Косны были их губы и бормотали в морозном воздухе неясные речи. А те, кто пришел после Пушкина, оказались в положении продолжателей, ибо самые – то главные слова Пушкин сказал.
Классический век для каждой национальной литературы – это вовсе не наиболее блестящий в политическом, экономическом или культурном отношении век. Это первый век относительной первоначальной, я бы сказал, отроческой зрелости интеллигенции данной нации. Как только обстоятельства позволяют этой нации родиться, упрочиться, как только ее таланты могут сколько-нибудь округлиться, так сейчас же они начинают ковать язык, а он еще гибок, он еще податлив. Вовсе не нужно фиглярничать, выдумывать, умничать и заумничать. Достаточно брать обеими руками из сокровищницы народной речи и при помощи ее называть вещи, как Адам в Библии называет впервые первозданные феномены окружающего.
И то же относится к содержанию. Никто еще не выразил ни одного живого, ни одного гибкого, ни одного сложного чувства. И когда они накопились в душе, они прорываются с живительной свежестью, необыкновенной естественностью. Естественность, органичность, первозданность – вот те печати, которые лежат на счастливом челе классических произведений. И будь ты хоть семи пядей во лбу, превосходи ты даже гениев классической эпохи, все равно ты во многом будешь эпигоном, ибо будешь писать языком, которым они писали, а он уже обычен, ибо, желая идти дальше, начнешь впадать в манерность, в преувеличенность, в педантизм, в провинциализм и т. д. и т. п.
По содержанию самое время становится гораздо более сложным, гораздо более углубляющимся по огромному многообразию постепенно накопляющейся внешней и внутренней жизни. Да, кроме того, из всего этого запаса нам приходится, если мы хотим быть оригинальными, – брать не те черты, которые являются самыми важными. Надобно уходить в импрессионизм, то есть вместо существенного отмечать случайное и беглое, потому что существенное уже отмечено; либо в деформацию, то есть в стремление исказить явления природы, потому что так, как они есть, они уже чудесно отражены и возвеличены великанами классиками; либо в туманный символизм, пытаясь через вещи видеть сложное и тайное, чем богата душа эпигона.
Эпигонство – вещь ужасная. Мы не отрицаем того, что среди эпигонов могут быть тоже великаны по дарованию, не меньшие, чем классики, ни того, что эпигонская литература может быть чрезвычайно изящной, оригинальной, сильной, потрясающей даже, но всегда люди невольно, в лучшие минуты свои, оглянувшись на Гёте, на Моцартов или глубже, в другие классические времена, на Гомеров, Калидас, будут чувствовать, что там истинная, безмятежная, глубинная, успокаивающая, целительная, возвышающая красота – и что все позднейшие выверты, судороги, домыслы – отнюдь не являются прогрессом, хотя и не лишены своей ценности.
Быть может, великий потоп социальной революции, быть может, выступивший пролетариат способен совсем до дна, с самого основания освежить искусство. Но это еще большой вопрос, и уж, конечно, нельзя ради этого предполагаемого обновления предъявлять претензии на состояние голого человека на голой земле.
Пролетариат может обновить человеческую культуру, но в глубокой связи и преемственности с достижениями прошлой культуры. И, быть может, самой верной является надежда на то, что тут мы будем иметь явление еще небывалое, не явление новых рождений, а фаустовского возвращения к юности с новыми силами и новым будущим и со всей памятью о былом, не обременяющей, однако, душу.
Пока оставим в стороне этот вопрос и вернемся к Пушкину. Пушкин был русской весной, Пушкин был русским утром, Пушкин был русским Адамом. Что сделали в Италии Данте и Петрарка, во Франции – великаны XVII века, в Германии – Лессинг, Шиллер и Гёте, – то сделал для нас Пушкин. Он много страдал, потому что был первым, хотя ведь и те, которые пришли за ним, русские «сочинители», по признаниям их, от Гоголя до Короленко, немало скорби вынесли на плечах своих. Он много страдал, потому что его чудесный, пламенный, благоуханный гений расцвел в суровой, почти зимней, почти ночной еще России, но зато имел «фору» перед всеми другими русскими писателями. Он первый пришел и по праву первого захвата овладел самыми великими сокровищами всей литературной позиции.
И овладел рукою властной, умелой и нежной; с такою полнотой, певучестью и грацией выразил основное в русской природе, в общечеловеческих чувствах, во всех почти областях внутренней жизни, что преисполняет благодарностью сердце каждого, кто впервые, учась великому и могучему русскому языку, впервые приникая к родникам священного истинного искусства, пьет из Пушкина.
Если сравнить этого корифея нашей замечательной литературы с другими зачинателями великих литератур, с бесценными гениями: Шекспиром, Гёте, Данте и т. д., то невольно останавливаешься перед некоторым абсолютным своеобразием Пушкина, притом своеобразием неожиданным.
В самом деле. Чем позднее оказалась особенно богатой и замечательной наша литература? Своей патетикой, почти патологической патетикой. Наша литература идейна, потому что нельзя ей не мыслить, когда такая пропасть разверзается между самосознанием ее носительницы интеллигенции и окружающим бытом. Она болезненно чутка, она возвышенна, благородна, она страдальческая и пророческая.
А между тем если сразу, не вдумываясь в детали, кинуть взгляд на творчество Пушкина, то первое, что поразит, это вольность, ясный свет, какая – то танцующая грация, молодость, молодость без конца, молодость, граничащая с легкомыслием. Звучат Моцартовы менуэты, носится по полотну и вызывает гармоничные образы Рафаэлева кисть.
Отчего же Пушкин в целом, в главном так беззаботен, беззаботен до того, что даже говорят иногда: «Все-таки это не Шекспир, все-таки это не Гёте; те более глубокомысленны, те более философы, более учителя!»
Положим, что говорящие так не правы, по крайней мере не совсем правы, ибо стоит только приподнять пелену грации Пушкина, и можно увидеть глубины, предрекающие дальнейшую русскую литературу: «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы», со своей раздирающей песнью председателя, некоторые сцены «Бориса Годунова», некоторые лирические порывы в «Евгении», загадочный «Медный всадник» и многое другое – все это какой – то широкий океан, какие – то жуткие провалы и виды на такие вершины, куда только – только хватило бы донестись крыльям Дантов и Шекспиров.
Но эти угадки, эти с необычайной легкостью на абордаж взятые психологические и интеллектуальные ценности, на которые Пушкин как будто бы не обращает особенного внимания, вроде поразительного «Фауста», где в небольшой сцене Пушкин становится вровень с веймарским полубогом, – все это создано как будто бы невзначай, как будто бы великая рука, пробегая по клавиатуре только что открытого инструмента, знакомясь и знакомя других со всеми волшебными сочетаниями звуков на нем, от времени до времени извлекает несколько аккордов, вернее, диссонансов, потрясающих слушателей.
Откуда же это пушкинское счастье при несчастье его личной жизни? Может быть, это совершенно индивидуальная черта? Я думаю, нет. Я думаю, что и здесь Пушкин был органом, элементом, частью русской литературы во всей ее исторической органичности.
Встал богатырь; силушка по жилочкам так и переливается. Уже предчувствуются горести и скорби, уже предчувствуется вся глубина и мука отдельных проблем, но пока не до них, и даже они радуют. Все радует, ибо сильна эта прекрасная юность. В Пушкине-дворянине на самом деле просыпался не класс (хотя класс и наложил на него некоторую свою печать), а народ, нация, язык, историческая судьба. Вот эти семена, которые привели – таки в конце концов к нашей горькой и ослепительной революции. Пушкин послал первый привет жизни, бытию в лице тех миллиардов человеческих существ в ряде поколений, которые его устами впервые вполне членораздельно заговорили.
Там, даже у Данте в XIII веке – большая культура за плечами, своя, схоластическая, и античная. А русский народ проснулся поздно, варварский и свежий. Конечно, Пушкин усваивал с гениальной быстротой и Мольера, и Шекспира, и Байрона, а рядом Парни и всякую другую мелочь. В этом смысле он культурен, но все это совсем его не тяготило, это не было его прошлое, это не было в его крови. Его прошлое, то, что жило в его крови, это было русское свежее варварство, это была юность просыпающегося народа в глубокой ночи безрадостной исторической судьбы – тяжелой, громадной силы народа, начавшего оттаивать в казематные времена Николая I. А его будущее было не те годы, которые он прожил на земле, не скорбная кончина, даже не бессмертная слава. Его будущее было все будущее русского народа, громадное, определяющее собою судьбы человечества даже с того холма, на котором стоим мы еще в загадочной дымке.
Великолепно начали мы с Пушкиным. Страшно сложно и глубоко и вместе с тем с какой – то беззаботностью огромной силы. Знать Пушкина хорошо, потому что он нам дает утешительнейшее знание сил нашего народа. Не патриотизм ведет нас сюда, а сознание необходимости и неизбежности несколько особого служения нашего народа среди других народов – братьев. Любить Пушкина хорошо и, может быть, особенно хорошо любить Пушкина в наше время, когда наступает новая весна, как – то непосредственно за довольно гнилой осенью.
Русская буржуазия, русский буржуазный уклад кратчайшим путем впал в последние судороги эпигонства, в декаданс, с декаданса – к той художественной кувырколлегии, которую породила изживающая себя культура других народов буржуазного Запада.
Новая весна приходит в грозах, в бурях, и надо отдать искусству ту дань внимания, какая возможна была для лучших людей России в первую, пушкинскую весну. Но между пролетарской весной, какой она будет, когда земля начнет одеваться цветами, и весной пушкинской гораздо больше общего, как я уже говорил однажды, чем между этой приближающейся весною и тем разноцветным будто бы золотом, на самом деле сухими листьями, которыми усеяна была почва до наступления нынешних громовых дней.
1922
Комментарий
Анатолий Васильевич Луначарский (1875–1933), революционер, государственный деятель, писатель, критик, искусствовед. С октября 1917 года по сентябрь 1929 года – первый нарком Просвещения РСФСР. Один из основоположников советской культуры.