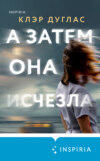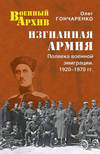Kitobni o'qish: «Москва, которую мы потеряли»
Памятник есть безмолвный проповедник, который в некотором отношении может быть превосходнее говорящего, потому что не прекращает порученной ему проповеди и, таким образом, она доходит до целого народа и до многих последовательных родов.
Митрополит Филарет Московский
Глава первая
Родные пенаты
Сквозь чащу Петровского парка. Церковь Петра и Павла в Петровско-Разумовском и ее окрестности
Жить в исторической части города – великая честь для любого истинного москвича, хотя в равной степени и столь же большая ответственность. В старой Москве почти не бывает уголков, не имеющих собственной любопытной истории, связанной, как правило, с населявшими их горожанами, известными и не очень, а что касается до московских храмов, то судьба каждого из них претендует на отдельную книгу.
Быть коренным москвичом, не проявляя при этом интереса к окружающему тебя миру архитектуры и природы, во времена моего детства и отрочества считалось дурным тоном. Лишенные возможности свободно путешествовать по миру, мои сверстники стремились познать окружающий их московский мир с решимостью, достойной Колумба, взявшего на себя трудоемкую задачу поиска Индии. Недоступность необходимых книг и добротных справочников частично возмещалась памятью даже не родителей, а в большинстве своем бабушек и дедушек, а в отсутствие таковых – просто добрыми людьми, готовыми поделиться знаниями с теми, кто изъявлял к предмету их познаний обыкновенное любопытство. В наши дни характер всезнающего старого москвича почти утрачен или, во всяком случае, не столь распространен, как было еще четверть века назад. И с сожалением отметим, что будущее не сулит этому быстро вымирающему типу сколь бы то ни было светлых перспектив. Предания «Москвы потаенной» безвозвратно уходят год за годом вместе с их настоящими хранителями. Лицо Москвы теперь составляют новые горожане, неизмеримо далекие от бережного отношения к ее седой старине и преданиям ветхой московской жизни, которые в иные времена передавались в семьях на протяжении столетий. Память города пытаются сберегать немногие знатоки, но и они не в силах «объять необъятное». Своей первой задачей в опубликовании настоящих очерков мы ставим воспроизведение на бумаге устных рассказов, которые сохранила и донесла память. Возможно, будущие историки православной Москвы воспользуются ими как справочным материалом или просто набором фактов, с которых начнется разматывание клубка времени, нить которого когда-нибудь приведет к полноценному и объемному описанию этих достославных московских мест и освещению их судеб. Мы же попробуем передать им, в будущее, несколько таких рассказов, сохранившихся еще с минувшего века в семье отца автора, дабы всякий, взыскующий об исторической правде, мог использовать эти сведения для своей работы. Когда-нибудь он с сердечным трепетом приступит к познанию основ своего города и памятников его духовной культуры – московских храмов.
Рассказывать о храмах Москвы – задача превосходная и в равной мере сложная, ибо задолго до нас это пытались сделать столпы отечественной публицистики, поэтому ограничим наш рассказ лишь теми из них, которые, просияв на московских просторах, навсегда исчезли, разрушенные и оскверненные в годы советской власти. Далее мы сузим задачу до еще более простой цели – поведать лишь о тех из них, на пепелище которых довелось побывать автору этих строк. Водимый своими Вергилиями – отцом ли, дедом или просто знающими людьми, – он навсегда проникся восхищением перед прекрасными тенями московских церквей, и постарался запомнить почти все, что некогда говорилось о них взрослыми. В те стародавние года мне казалось, что возрождение этих храмов уже почти невозможно, да и что делать с «гением места», который не может быть возрожден просто так, по прихоти или по одному лишь желанию. Прошедшее время лишь утвердило меня в правоте этого убеждения, несмотря на повсеместное строительство и реставрацию обветшавших православных зданий, идущие полным ходом в изменяющей свой облик столице. Поэтому, постаравшись сохранить образы храмов и окружавшие их местности на бумаге, мы начнем, благословясь…
Вся моя жизнь со времени давнего уже детства связана с этим удивительным московским уголком. За всю свою многовековую историю оно успело сменить несколько названий, при этом происхождение некоторых из них есть великая тайна. Дабы показать, что это ничуть не преувеличение, поговорим о происхождении нашей местности. Старинное село Петровское было известно тем, что во времена оные близ этой территории простирались владения ВысокоПетровского монастыря, что могло послужить названием для всех простиравшихся на все четыре стороны света окрестностей, в состав которых входили сохранившееся и поныне Петровско-Разумовское, и канувшее в Лету Петровское-Зыково. Гулянья в Петровском-Зыкове в отличие от других популярных подмосковных мест носили в первой половине XIX в. вполне аристократический характер. В конце 1850-х гг., когда из Сибири стали возвращаться сосланные декабристы, им было поначалу запрещено жить в Москве. И некоторые из них перебрались в Петровское-Зыково, в том числе такие известные люди, как Иван Пущин, друг А.С. Пушкина. Как известно, Иван Иванович, «мой первый друг, мой друг бесценный» по словам Пушкина, был заговорщик-декабрист. Сын сенатора, он учился в Царскосельском лицее вместе с А.С. Пушкиным. По окончании лицея, с 1817 г. он стал офицером гвардейской конной артиллерии. Через три года ушел с военной службы, став с декабря 1823 г. судьей Московского надворного суда. Отбыв на этой должности неполных три года, Иван Иванович подал в отставку и уже больше не помышлял о служебной карьере. Еще в 1816–1817 гг. он входил в политический кружок «Священная артель», а летом 1817 г. был даже принят в «Союз спасения». Через полгода, в начале 1818 г. Пущин вошел в «Союз благоденствия», а позднее – в Северное общество декабристов. В 1823 г. организовал Петербургскую управу, а в 1825 г. (совместно с Е.П. Оболенским) – Московскую управу Северного общества. Участвовал в подготовке восстания на Сенатской площади 14 декабря, был арестован двумя днями позже. За умысел цареубийства Пущин был приговорен к смертной казни, замененной затем 20 годами каторги в Туринске и Ялуторовске. С 1839 г. Пущин пребывал на поселении. После амнистии 1856 г. из-за болезни он получил высочайшее разрешение вернуться в Петербург. Та м Иван Иванович пробыл недолго: вскоре он скончался в селе Марьино Бронницкого уезда и был погребен в Бронницах.
К концу XIX в. земли дворянства в Петровском-Зыкове начали скупать купцы и почувствовавшие тягу к соседству с аристократией промышленники и предприниматели всех мастей. Имя Петра Великого, якобы отразившееся в названии местности, как нельзя больше льстило их непомерному самолюбию. Та к или иначе, большинство новых собственников земель в этой местности смутно догадывались, если не знали наверняка, что название некогда соседнего с монастырскими владениями села Петровского имело к императору самое прямое отношение и упоминалось уже с конца XVII в., ибо так стали именоваться дарованные царем Петром Алексеевичем земельные наделы. Дарованные ряду придворных, а также лицам, снискавшим расположение государя отличиями по службе и личными заслугами, они впоследствии переменили еще нескольких владельцев, однако сохранили общее название. Семья Романовых также стала, в свою очередь, владельцами этой земли, получив ее из рук своих дальних родственников.
Известно, что в середине XIV в. на этих обширных землях находилось небольшое село Семчино с местной церковью. Князь Иван Иванович, сын Ивана Калиты, завещал его своей жене. Упоминание о нем нашлось и на страницах духовной грамоты царя Ивана Грозного, датированной 1572 г. Впрочем, дальнейшее развитие этот населенный пункт так и не получил. В 1587 г. село Семчино уже именовалось пустошью, приписанной к селу Топоркову – владению боярина Василия Ивановича Шуйского (Василия IV, 1552– 1612 гг., русского царя в 1606–1610 гг.), сына князя Ивана Андреевича Шуйского из рода суздальско-нижегородских князей. Боярин с 1584 г., Шуйский интриговал против Бориса Годунова, но был в итоге прощен. В 1591 г. он стал главой правительственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели царевича Дмитрия. Позже боярин участвовал в боевых действиях против Лжедмитрия I, но после смерти Бориса Годунова перешел на сторону Самозванца. Это не помешало ему участвовать в заговоре против «царя Димитрия» летом 1605 г.; Шуйский был приговорен Боярской думой к смерти, но затем помилован и прощен самим царем. С декабря того же года Шуйский вновь при дворе. В мае 1606 г. он опять возглавил заговор против Лжедмитрия, приведший к свержению и убийству последнего. Через два дня после смерти самозванца Василий Шуйский был избран на царство и дал крестоцеловальную запись о границах своей власти, о верности народу.
Правление Василия IV проходило в обстановке продолжения борьбы за власть между различными княжеско-боярскими группировками, а также крупнейшего крестьянского восстания под предводительством И.И. Болотникова. Для сплочения правящих сословий Василий IV предпринял ряд мер в их интересах (в частности, установил 15-летний срок сыска беглых крестьян). Это помогло ему объединить все силы для подавления восстания. В целях обеспечения успеха в противостоянии с Польшей царь был вынужден заключить союз со Швецией в обмен на передачу ей части северо-западных земель. Крупнейшее поражение царских войск в борьбе с поляками в июле 1610 г. возле села Клушино под Можайском привело к свержению Василия Шуйского и насильственному пострижению его в монахи. В сентябре 1610 г. он был выдан правительством Семибоярщины полякам и вывезен в Польшу, где вскоре умер в заточении. В 1620 г. польский король Сигизмунд торжественно перенес его гроб в Варшаву, в нарочно построенный мавзолей, а в 1635 г. останки царя Василия были возвращены в Россию и погребены в Архангельском соборе.
Как известно, в период Смутного времени Шуйский был венчан на царствие, а часть его владений, включая пустошь Семчино, переменив нескольких владельцев, попало к Ивану Васильевичу Шуйскому, брату нового государя, и уже в его собственности было описано как деревня Семчино, то есть поселение без собственной церкви. Через некоторое время Семчино перешло к племяннику Ивана Шуйского князю Семену Васильевичу Прозоровскому и вновь обрело статус села, что свидетельствовало о том, что местная церковь уже была в нем отстроена и, по некоторым сведениям, освящена во имя архангела Михаила. Сам князь Прозоровский принял монашество, а перед тем как отправиться в монастырь, подготовил документ, согласно которому владение селом было разделено между его сыновьями. Та к Семчино ушло к князю А.С. Прозоровскому. Но после его кончины наследники продали владение в том виде, в каком оно было получено от старого князя Прозоровского, ибо делить его на еще более мелкие участки становилось невыгодно.
Покупателем села, если довериться преданиям, стал царь Алексей Михайлович, «охотник достоверный», как именовали его летописцы, ибо соколиная охота, составлявшая главную часть досуга царя, требовала своего рода удаления от шумного двора и его обитателей, а в патриархальной семченской тишине царь мог полноценно предаваться любимому делу. Привал царственного охотника между набиравшими размах турами охоты проходил в особом деревянном домике, затерявшемся в сени дубрав. Как ни были близки государеву сердцу охотничьи забавы в этих местах, однако же он без трепета сердечного расстался с ними, когда в порыве искреннего расположения пожаловал любимые угодья своему тестю, боярину Кириллу Полуэктовичу Нарышкину. Широкий родственный жест Алексея Михайловича в наши дни оспаривают ряд досужих спорщиков, утверждающих, что в 1676 г. боярин Нарышкин будто бы сам приобрел село Семчино у наследников князя Прозоровского (!). Новый владелец нарек свои земли Петровским, вероятно, сделав это в честь апостола Петра, небесного покровителя его внука-царевича, родившегося в 1672 г. Деревянный Петропавловский храм возвели в Петровском еще в 1678 г. С этого года село под таким названием стало упоминаться в различных письменных источниках.
В 1682 г. на Москве случился приснопамятный стрелецкий бунт. Власть перешла к царевне Софье, не особо жаловавшей Нарышкиных в силу сложных семейных взаимоотношений. Боярин Нарышкин-старший был насильно пострижен в монахи, а село Петровское перешло к его сыну, малолетнему тогда Льву Кирилловичу, состоявшему под опекунством его матери Анны Леонтьевны Нарышкиной. Опасаясь за дальнейшую судьбу внуков и за свою собственную, боярыня Нарышкина дала обет построить в селе каменный храм во имя апостолов Петра и Павла, небесных покровителей малолетнего государя. Второй причиной строительства называлась и память о разыгравшейся в Кремле трагедии, к которой оказались причастны Нарышкины. В следующем после бунта 1683 г. Анна Леонтьевна отвела от щедрот своих под строительство храма просторный участок земли, выделив при этом и некоторые средства на литье трех колоколов «на вечное поминовение по муже своем боярине Кирилле Полуехтовиче Нарышкине и по детех своих и по всех родителех своих». Так, во всяком случае, гласила надпись на одном из колоколов. Благоустроенный каменный вотчинный храм, златоглавый и с белыми резными наличниками и витыми колонками, при большом скоплении народа освятили в 1691 г. «Замечательное благолепие» Петропавловского храма отмечалось тогда многими москвичами-современниками. Храм являл собой не только прекрасный образец стиля «московского барокко», но стал самой замечательной постройкой села Петровского, оставаясь таковой на протяжении последующих веков.
В целом этот уголок Москвы был мил и приятен не только Нарышкиным, но оказался по нраву и государю. Будучи еще молодым человеком, Петр Великий, говорят, искренне любил приезжать в дедовскую вотчину и заходить в ее достопамятный храм. Та м он вдохновенно пел на клиросе, читал принесенный с собой Апостол и впоследствии даже пожертвовал храму эту богослужебную книгу издания 1684 г. с собственноручной надписью. Достоверность царского автографа подвергалась сомнению, считаясь пометкой одного из дьяков, отметившего на форзаце лишь то, что книга, принадлежавшая государю, была подарена им «в подмосковную вотчину боярыни Анны Леонтьевны Нарышкиной, в село Петровское, к церкве святых верховных апостол Петра и Павла». Как бы там ни было, но книга хранилась в храме вплоть до октября 1917 г. О том, что произошло с ней после того, нетрудно предположить.

Церковь Петра и Павла (1692) в Петровско-Разумовском
О неравнодушном отношении царя Петра Алексеевича к землям Петровского говорит хорошо известный факт приложения им немалых усилий для придания окрестностям «благолепного» вида в царском понимании «европейского» благолепия. Именно здесь он велел выстроить для себя летний дворец и, засучив рукава, начал работу над проектом разбивки первого «регулярного парка» в голландском стиле. Та м он сажал молодые дубки в ожидании появления со временем густой дубовой рощи. Около села царь даже основал ферму – скотный двор с голландскими коровами, назвав это свое маленькое владение «сельцом Астрадамским», сиречь Амстердамским. Любопытно и то, что имя это потом осталось в названии местной улицы.
Напомним читателю, что при этом село Петровское не являлось собственностью царя, а принадлежало его дяде – Льву Кирилловичу Нарышкину, человеку, чья фамилия дала название целому архитектурному стилю, именуемому «нарышкинским барокко». Блаженной памяти Лев Кириллович (1664–1705) в 1690–1702 гг. возглавлял Посольский приказ. Реальная власть после свержения царевны Софьи была сосредоточена в руках братьев Нарышкиных. Положение начало меняться только после смерти Натальи Кирилловны. Петр начал активно заниматься решением важных государственных вопросов. Возможно, родственником Н.К. Нарышкиной был А.В. Нарышкин, член Академии наук и Вольного экономического общества во второй половине XVII в. В правлении государством заметную роль стала играть Наталья Кирилловна. С начала XVIII в. роль Нарышкиных падает, но вплоть до времен Александра I и позднее они, занимая при дворе видные государственные должности, оказывали заметное влияние на государственную политику России. Сын последнего, Иван Львович, был также обласкан Петром и отправлен за границу учиться навигацким наукам. А вот дочь Ивана Львовича, Екатерина Ивановна Нарышкина, фрейлина и любимая дальняя родственница государыни Елизаветы Петровны, была одной из самых богатых невест России. Среди прочих ее владений оказалось и наследованное Петровское. В 1746 г. Екатерина Ивановна вышла замуж за известного фаворита государыни – графа Кирилла Григорьевича Разумовского. Их обручение проходило в атмосфере небывалой роскоши и почти придворного официоза. На свадьбу приехала сама императрица, которой Екатерина Нарышкина доводилась ни много ни мало «внучатой сестрой». В силу родственных связей с двором Елизаветы Петровны в московский дом Нарышкиной на Воздвиженке собрались почти все родственники императрицы, включая ее племянника и невестку. На следующий день после свадьбы Нарышкину пожаловали в статс-дамы и одарили портретом государыни, оправленным в золото и инкрустированным бриллиантами. Село Петровское же, равно как и дом на Воздвиженке, стали приданым Екатерины Ивановны. Таким образом, у старой вотчины появился еще один совладелец, добавивший к ней второе имя – Разумовское.
Граф Кирилл Григорьевич Разумовский, потомок малороссийского казака Григория Розума, был братом знаменитого Алексея Григорьевича Разумовского, фаворита императрицы Елизаветы, с которым она, согласно преданию, тайно обвенчалась и родила от него дочь Августу – легендарную княжну Тараканову. Граф Кирилл Григорьевич стремительно выдвинулся на первые роли в силу особого положения при дворе императрицы родного брата, но еще в немалой степени этому способствовали и его незаурядные личные способности. Получивший европейское образование, граф Кирилл Григорьевич по возращении в Петербург в 1745 г. был пожалован императрицей в придворный чин камергера. Служба по придворному ведомству оказалась для него самой благоприятной стихией. Хорошо образованный, знавший иностранные языки, он стал незаменимым спутником государыни. Наверное, именно поэтому «в рассуждении усмотренной в нем особливой способности и приобретенного в науках искусства» граф Разумовский в свои 22 года был назначен на пост президента Академии наук. Именно в этот год и состоялась его свадьба с Екатериной Ивановной Нарышкиной. Первый указ президента Академии наук был о печатании при академии гражданских книг, «в которых польза и забота соединены были бы с пристойным к светскому житию нравоучением». В 1750 г. граф Кирилл Григорьевич был избран в гетманы Малороссии, но к своим обязанностям в тех благословенных местах относился без должного рвения, утверждая при этом, что «последним (настоящим. – Авт.) гетманом был только Иван Мазепа». Неплохо говоривший по-французски, граф Разумовский усиленно поддержал установление общения на этом языке при дворе. В роковом июне 1762 г. он «с великим усердием» поддержал Екатерину II, за что был щедро вознагражден деньгами и отмечен особой монаршей милостью: государыня Екатерина Великая по пути в Москву, на коронацию, посетила его дворец в Петровско-Разумовском. Именно оттуда и начался ее церемониальный въезд в Москву. Отношения графа Разумовского с новой императрицей не получили длительного развития. В 1763 г. К.Г. Разумовский захотел сделать пост гетмана в Малороссии наследственным, с прошением чего и обратился к императрице. Матушка Екатерина усмотрела в том скрытую крамолу и покушение графа навязаться ей в соправители. Именным указом она отозвала его в Петербург для объяснений. Не вдаваясь в мотивы своего поступка, Разумовский счел за благо немедленно подать в отставку, чем разрешил весьма неприятную для императрицы ситуацию. Благосклонно приняв верноподданное прошение графа, Екатерина продолжала некоторое время навещать его в Петровско-Разумовском и даже жила у него во дворце, когда инкогнито приезжала в Москву. Та м однажды государыню увидел молодой солдат лейб-гвардии Семеновского полка Гавриил Романович Державин, стоявший в ту пору часовым в карауле. Ей, державной Фелице, будущий поэт посвятит не одну строку. «К тебе усердием, Фелица,//О, кроткий ангел во плоти,// Которой разум и десница// Нам кажут к счастию пути!»1 Ко времени, когда государыня императрица начала останавливаться в пределах Петровско-Разумовского, оно стало достойно августейших визитов.
Граф Кирилл Григорьевич, известный современникам почти крестьянской рачительностью, сразу же после свадьбы занялся обустройством владения на свой лад. Для проектирования усадьбы им был приглашен петербургский архитектор Филипп Кокоринов, по чертежам которого был построен главный дом усадьбы – настоящий дворец с башенными часами. Неподалеку от него протянулся каскад прудов, выходивших в парк, обустроенный в лучших традициях королевского садовника мэтра Леконта. Парк радовал невзыскательный глаз своими пирамидальными клумбами, тенистыми аллеями, триумфальными воротами из ветвей сплетенных деревьев и даже гротом, судьба которого стала впоследствии печально знаменита. Подобную активность графа Разумовского, проявленную в отношении полученных в приданое угодий, иные наблюдатели были склонны объяснять желанием последнего воплотить давние замыслы Петра Великого. По существу усадьба Разумовских в большей степени напоминала город, нежели пригородное строение. В пределах парка случались даже народные гулянья, но в сад а-ля Тюильри пускали только тех из москвичей, чье платье удовлетворяло требованиям приличий. Главный дом усадьбы в те времена был соединен каменной галереей с Петропавловской церковью, которая стала домовым храмом графа Разумовского. Это имение уже в преклонных летах граф передал своему сыну Льву Кирилловичу Разумовскому, владельцу знаменитого дома на Тверской, где в XIX в. был открыт Английский клуб (в советское время – Музей Революции).
История московского Английского клуба стоит того, чтобы вкратце рассказать о ней читателю. Высшее общество Москвы и Санкт-Петербурга почти одновременно объединилось в два столичных Английских клуба, которые в дальнейшем оказали большое влияние на зарождавшиеся в дворянской России демократические традиции. 1772 г. – дата первого документального упоминания об Английском клубе в Москве. Она принята в качестве официальной даты его рождения. Таким образом, клуб является старейшим независимым общественным учреждением нашей страны. С первых лет своего существования московский Английский клуб стал центром общественной жизни. В нем вырабатывалось общественное мнение по многим важным вопросам государственной политики, и далеко не всегда оно совпадало с официальными взглядами высших чинов Российской империи. На протяжении своей многовековой истории клуб трижды закрывался, но всегда находились инициативные москвичи, которые возрождали его к новой жизни.
В 1798 г. по указу императора Павла I московский Английский клуб был закрыт в первый раз. Павел Петрович резко сменил политический курс своей матери – императрицы Екатерины II, оказывая содействие Наполеону в блокаде Англии. И хотя в клубе по существу никогда не было ничего английского, его название стало хорошим поводом для закрытия этого свободного собрания москвичей. Главное было – дать наглядный урок обществу. В 1801 г. в Санкт-Петербурге группа дворян-цареубийц, в среде которых была сильна проанглийская партия, совершила дворцовый переворот. Павел Петрович был убит, а на престол возведен император Александр I. Уж е в 1802 г. московское общество восстановило свой любимый Английский клуб. «Дней Александровых прекрасное начало», воспетое А.С. Пушкиным, стало золотым веком клубной истории. Клуб арендовал дворец князей Гагариных на углу Петровки и бульвара. Именно здесь был дан знаменитый торжественный обед в честь великого полководца князя П.И. Багратиона, описанный Л.Н. Толстым в романе «Война и мир».
Наполеоновское нашествие и великий московский пожар 1812 г. стали причиной второго закрытия клуба. Большинство его членов было в армии или разъехалось по имениям. Старая Москва сгорела, а вместе с ней сгорел и дворец Гагариных. В 1813 г. пришлось все начинать заново. Клуб несколько раз менял адреса, располагаясь то на Страстном бульваре, то на Большой Никитской, пока не перебрался на Большую Дмитровку. Лишь в 1831 г. удалось найти постоянное «место жительства» – дворец графов Разумовских на Тверской улице. На рубеже XIX и XX столетий дворец после 70-летней аренды перешел в собственность клуба.
В первых числах ноября 1917 г. дом на Тверской заняла большевистская московская милиция. Членам клуба собираться стало негде, да и небезопасно, а чуть позже – и некому. Та к большевики закрыли клуб в третий раз. В клубном дворце был создан Музей Революции, но в памяти москвичей он навсегда остался легендарным Английским клубом, описанным его знаменитыми завсегдатаями – Пушкиным, Грибоедовым, Тютчевым, Толстым. В наши невеселые дни это Музей политической истории России.
В литературоведении считается, что именно Лев Кириллович, владелец приличного состояния и многих объектов недвижимости в Москве, был избран графом Толстым прототипом его Пьера Безухова в «Войне и мире». Сын гетмана Кирилла Григорьевича Разумовского и его жены Екатерины Ивановны, он обучался вместе с братьями дома, а затем был отправлен для продолжения образования за границу. По возвращении в Россию в 1774 г. граф Лев Кириллович был зачислен в посольство князя Н.В. Репнина и отправлен в Константинополь. После возвращения он поступил в действительную службу в лейб-гвардии Семеновский полк, в который был записан с раннего детства. Из-за его «беспутного» времяпрепровождения отец поспешил удалить его из столицы. В 1782 г., получив чин полковника, Разумовский был переведен генеральс-адъютантом к князю Г.А. Потемкину и участвовал в русско-турецкой войне. Под начальством А.В. Суворова он командовал егерским полком; отличился в битве при Исакчи, в сентябре 1789 г. преследовал турок до Измаила, 2 ноября участвовал во взятии Бендер. В 1789 г. он был произведен в чин бригадира, а в 1790 г. – в генерал-майоры. В 1791 г. участвовал в сражении при Мачине; награжден орденом Св. Владимира 2-й степени. Со вступлением на престол императора Павла I Разумовский, числясь в Малороссийском гренадерском полку, подал прошение об увольнении со службы по болезни. Проведя несколько лет за границей, по возвращении граф поселился в Москве, при этом получил от отца малороссийское имение Карловка, вотчины в Можайском уезде, а также Петровско-Разумовское. Разумовский был хорошо известен буквально всей Москве; его дом славился своим гостеприимством и балами.
Младший Разумовский был изрядно образован, при том оставаясь скромным православным человеком, приверженцем древнего благочестия и традиций. В 30 лет он выслужил превосходительный чин, отказался от дальнейшей карьеры и вышел в отставку, поселившись на Москве в собственном доме. На одном из балов, проводившихся по случаю Светлой Пасхи, он встретился с княгиней Марией Голицыной, доброй и благочестивой, как и он сам. Граф Разумовский влюбился в нее, но как человек чести не смел претендовать более чем на приличествующее ее положению общение. Княгиня была замужем, не особенно любила своего мужа – человека, подверженного азартным играм, и изрядного мота, для поддержания своего реноме раскуривавшего иной раз трубку крупными денежными купюрами. Удача улыбнулась влюбленным совершенно с иной стороны. Эксцентрик по натуре, князь Голицын в один прекрасный вечер проиграл графу Разумовскому собственную жену в карты – к великому для той счастью. Оформить развод в те времена было долгим и сложным делом, но тем не менее в Петровско-Разумовском появилась новая хозяйка. Этот союз не был благосклонно принят в свете, но неловкую ситуацию разрешил сам государь Александр Павлович, на одном из балов назвав княгиню Голицыну графиней. После того законность их супружества уже более не подвергалась сомнению – по крайней мере, публично. Граф Лев Кириллович, как известно, унаследовал отцовскую бережливость и радение о собственности, доходящей до совершенства. В 1804 г. он пристроил к Петропавловской церкви «зимний», отапливаемый придел, нареченный в честь Казанской иконы Божией Матери, пожертвовал немало средств на украшение царских врат и алтаря домовой церкви и собрал образцовый хор певчих.
В 1812 г. войска императора Наполеона, вторгшиеся в Россию, добрались, наконец, и до Белокаменной. В Петровско-Разумовском расположились на постой конная армия и штаб маршала Нея, пожалованного французским императором титулом «князя Москворецкого»; сюда, если верить бытописателям, приезжал и сам Наполеон. Петропавловский храм, как водится, осквернили и ограбили, взяв из него все, что не успели спрятать хозяева. Многие деревья в московском Тюильри порубили на дрова, а при прощании с негостеприимной столицей запалили графскую усадьбу, предварительно вывезя из нее картины, скульптуры и книги. По окончании Отечественной войны граф Лев Кириллович, посокрушавшись о содеянном, снова взялся за восстановление Петровско-Разумовского, преуспев в этом деле так, что со временем усадьба ничем не отличалась от своего прежнего великолепия, разве что меньшим количеством деревьев.
В 1818 г. граф Разумовский умер, не оставив после себя наследников, и с его смертью пресеклась история этого родового владения. Супруга пережила графа на 47 лет. Законных детей Разумовский не имел; у него были воспитанник, Ипполит Иванович Подчаский, и две воспитанницы. В 1820 г. усадьба была куплена московским градоначальником князем Долгоруковым, а в 1829 г. перепродана им за 210 тыс. руб. безвестному московскому аптекарю П.А. фон Шульцу. Фармацевт, чуждый романтике допетровской Руси и блистательной екатерининской эпохи, принялся сдавать его в аренду кому попало, повелел вырубить деревья на дрова, использовать земли под сенокосы на продажу и под обустройство дач. Все, что могло хоть в малой степени приносить доход помимо строго аптекарской деятельности, было пущено в оборот. Ничто не останавливало предприимчивого фон Шульца от извлечения вожделенной прибыли. Если даже в «купчих» запрещалось рубить ценные деревья, по распоряжению фармацевта их просто пилили. Без прежних крупных вложений нового владельца в усадебное хозяйство – обветшавший дворец с каскадом прудов – оно быстро пришло в упадок. Некогда тенистые сады Разумовского стали совершенно запущенными. Об этом стало известно государю Александру II, распорядившемуся выкупить за условленные средства из казны усадьбу Разумовского, отдав ее под учрежденную Сельскохозяйственную академию, как хотел устроить еще сам Петр Великий. В январе 1861 г. Министерством Двора и уделов усадьба по высочайшему повелению была выкуплена в казну за 250 тыс. руб. «с целью учреждения агрономического института, фермы и других сельскохозяйственных заведений»; ее стали перестраивать под новое, столь необходимое в то время учебное заведение. Оно было названо Петровской земледельческой и лесной академией, по названию места, где располагалась.