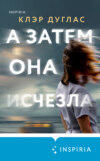Kitobni o'qish: «Зимние солдаты»

© Издательство «Паулсен»
© Зотиков И.А.
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
Глубокий поклон и благодарность Роберту (в книге Бобу) Дейлу, американскому летчику и моему антарктическому другу, пригласившему меня на свой остров Хакамок, где он жил, для совместной работы над этой книгой, духовным соавтором которой он несомненно является.
Выражаю также искреннюю благодарность Сергею Викторовичу Гуляеву, Андрею Глебовичу Макарову и Елене Сергеевне Ревиной за большую помощь в подготовке рукописи к печати.
Книга первая
Зимние солдаты

Зимние солдаты
Посадка яблонь. Остров Хакамок. История легенды. Антарктический договор. От летчика к жителю необитаемого острова. Американец едет в СССР. Рассказ в ОВИРе. Пилот первого американского морского атомного бомбардировщика. Донести полезный груз до точки назначения (к созданию первой советской баллистической ракеты). Русский едет на остров Хакамок
Два человека копают ямки для посадки фруктовых деревьев в тонком слое плодородной земли, прикрывающей обработанную когда-то ледником террасу, на одном из маленьких островов в глубине залива атлантического побережья штата Мэн. Здесь, на самом северо-востоке США, берег изрезан заливами, и тот, в котором находится островок, довольно глубок. Название острова – Хакамок. Это слово используется индейцами, когда они испуганы, – говорит предание. Слово не найдешь на картах, так назвал остров его владелец Боб Дейл, один из главных героев этой книги, один из тех двоих с лопатами. Он служил офицером летного состава военно-морского флота США до своей отставки в 1966 году. Родился в 1924 году и научился летать в начале Второй мировой войны. Летал на истребителях, базировавшихся на авианосцах, а во время Корейской войны пилотировал бомбардировщик, предназначенный для нанесения атомного удара по Китаю. На ранней стадии американского вмешательства во Вьетнам он уже начал летать на оборудованных лыжами самолетах в Антарктике, поддерживая Антарктическую Исследовательскую Программу США.
Три часа в день, которые он тратил на дорогу до своего офиса в городе Вашингтоне, могли довести до белого каления кого угодно. А тут добавилась еще и травма развода после двадцати шести лет супружеской жизни. И пришло время, когда стало ясно, что надо все упростить, надо наполнить жизнь смыслом самой жизни. Уехать от всего, что окружало, но было ненужным, построить бревенчатую избушку где-нибудь в отдаленном, глухом месте, на лесистом полуострове в штате Мэн, начать любовно ухаживать за своей землей, постараться меньше потреблять и научиться следовать природным ритмам, которыми живет земля.
Все это, в конце концов, и привело его на остров, который он назвал Хакамок. Назвал так, увлеченный одной историей, которую рассказал его сосед, историк-любитель Адам. Он услышал ее от своего соседа, а тот – от своего. А это уже много, потому что соседи здесь редки. Вот что рассказал Адам:
«Примерно сто пятьдесят лет назад некий джентльмен, мистер Поллер, жил на этом острове в доме, который стоял над той ямой от старого подвала, около которой вы, мистер Дейл, хотите строить сейчас свой новый дом. Он построил пилораму, которая использовала силу приливов и отливов, и занимался изготовлением досок. Однажды во время ужасного шторма индейцы захватили в плен белую девушку-служанку из белого поселения Вискассет, что недалеко отсюда. Они увезли ее на каноэ. Но она воспользовалась неразберихой из-за этого шторма, выскользнула из каноэ и по мелким местам добралась до дома мистера Поллера, чтобы укрыться там. Этой же ночью, пытаясь обмануть индейцев, Поллер отвел девушку в еще один, и единственный, дом, который стоял на острове. В этом доме жил рыжеволосый священник, спрятавший ее в своем подвале. Конечно, индейцы все поняли, разожгли огромный костер около этого дома и остановились там лагерем, ожидая, когда девушка покажется вновь. В это время черный медведь, напуганный штормом, пробегал мимо домика священника. Из-за вызванной штормом неразберихи священник внезапно столкнулся с медведем, впопыхах или с перепугу крепко схватился за него, почти оседлав, и они, уже вдвоем, ввалились в самый огонь костра – клубок из черной шерсти медведя и длинных рыже-красных волос священника, окруженный снопом искр. И… индейцы убежали с криком: «Хакамок! Хакамок!» (Дьявол! Дьявол!)».
Тронутый этой историей – не важно, правдивой или нет, – новый хозяин назвал остров этим словом – Хакамок. Он и залив перед островом начал называть Залив Хакамок.
Вторым копателем ямок для яблонь, ставшим впоследствии автором этой книги, был русский, гражданин СССР, родившийся в Москве, в 1926 году. Сейчас он ученый, член-корреспондент Российской академии наук. А начал свой путь к ней с того, что окончил Московский авиационный институт. И в то самое время, когда лейтенант-коммандер ВМФ США Дейл учился, как обращаться с атомной бомбой и как доставить ее на своем самолете на землю коммунистов, Игорь работал инженером на одном из ведущих советских авиационных заводов. Он конструировал реактивные двигатели для советских самолетов, стремясь сделать их лучшими в мире, чтобы победить любого капиталистического агрессора. Это было в 1949–1952 годах, в самом начале холодной войны.
Скоро Игорь перешел в систему Академии наук CCCP, где начал работать над кандидатской диссертацией. Он изучал проблемы переноса тепла и термодинамику процессов горения. Для этого Игорь помещал конусы из твердых сплавов в струи ракетных двигателей и другие горячие сверхзвуковые воздушные потоки и исследовал, что и как влияет на их разрушение. Здесь, как и прежде, это была настоящая гонка. Скорей, скорей найти путь для сохранения отделяемого носового конуса межконтинентальной баллистической ракеты, чтобы он не разрушился, раскалившись, при прохождении через плотные слои атмосферы к Земле. («Донести полезный груз до точки назначения» – говорили об этом там, где он работал). И именно благодаря стараниям его и его новых друзей в этот период мир в 1956 году с удивлением узнал, что русские имеют баллистические ракеты, способные донести атомную бомбу даже до земли по ту сторону Атлантики или Тихого океана. Конечно же, Игорь защитил по итогам своей работы кандидатскую диссертацию… И опубликовал в журнале «Метеоритика» статью о том, как моделировал процессы оплавления и разрушения метеоритов в плотных слоях атмосферы при падении их на Землю.
Следующее десятилетие было десятилетием советского триумфа в космосе. Но Игорь, сажающий сегодня яблони на острове Боба Дейла, к тому времени уже вышел из космической программы своей страны и открыл для себя новую главу в жизни. Он стал участником советской антарктической экспедиции и провел свои первые пятнадцать месяцев в Антарктиде, зимуя там на главной советской антарктической станции «Мирный». Здесь он начал применять полученные им знания о термодинамике горения к изучению ледяного щита Антарктиды.
Кому-то это может показаться странным, но его хобби еще со студенческих лет был альпинизм, и ледники он знал не только по книгам. А середина и конец пятидесятых годов – период огромного всплеска научных исследований, связанных с изучением Антарктиды. Гигантский, продолжавшийся почти два года научный проект под названием Международный геофизический год впервые объединил ученых многих стран, включая СССР и США, особенно в изучении Антарктиды. Известное под названием Проект МГГ, это событие объединило и ученых, и помогающих им специалистов этих стран.
Именно в это время, в конце МГГ, лейтенант-коммандер Дейл подал своему начальству заявление, что хочет служить в Антарктике, и начал летать там. Свою первую зимовку он провел на главной американской антарктической станции Мак-Мердо. А в двух тысячах миль, на станции «Мирный», зимовал Игорь Зотиков. Конечно, они ни разу не встретились и не узнали о существовании друг друга. Но каждый, вернувшись домой, независимо от другого, почувствовал, что то, что он пережил в Антарктиде, изменило его жизнь.

На борту этого теплохода «Михаил Калинин» Игорь Зотиков впервые прибыл в Антарктиду. 1958
И именно в это время представители двенадцати наций, включая американцев и русских, подписали в Вашингтоне замечательный документ под названием Антарктический договор. Этот договор почти полвека является образцом мирного сотрудничества всех стран, которые были вовлечены в научное освоение ледяного континента планеты. Среди многих статей этого договора, включающих объявление этой территории демилитаризованной областью, открытой для свободного обмена научными данными, и первой свободной от ядерных испытаний зоной, был и пункт, объявляющий о возможности обмена учеными между экспедициями разных стран. Так американский ученый приехал на советскую антарктическую станцию и жил и работал там в течение года, а советский ученый приехал на американскую станцию и работал там тоже год. В 1965 году таким «обменным ученым» стал Игорь Зотиков. Это имя уже стало известным среди специалистов по ледникам во всем мире. Ведь ему удалось первым показать на кончике пера, что под ледниковым щитом Антарктиды, в самой толстой, центральной и холодной части его, идет непрерывное таяние и должны существовать озера пресной воды.
На Мак-Мердо Игорь и Боб встретились. Коммандер Дейл немного говорил по-русски и хотел попрактиковаться в языке. Игорь Зотиков только что окончил свою зимовку на Мак-Мердо с американскими моряками и немного говорил по-английски, правда, в основном на морском жаргоне. Время от времени Игорь летал на самолетах, пилотируемых коммандером Дейлом. Они быстро перешли на «Боб» и «Игорь», почти мгновенно став друзьями. После обмена подарками (Игорь получил полярные ботинки Боба, а Боб – меховую шапку Игоря) и нескольких дней совместного отдыха в Новой Зеландии каждый из них отправился своей дорогой к любимой, ждавшей его на другом конце Земли. Но связь между ними уже образовалась. Оказались рядом на карте мира и их имена. Комитет по географическим названиям США назвал один из ледников Антарктиды именем Дэйла, а другой – именем Зотикова. Дома дела шли хорошо и у Боба, и у Игоря. Игорь стал у себя в стране доктором географических наук, руководил новым направлением в изучении ледников, еще не раз участвовал в американских антарктических экспедициях, встречаясь с Бобом по своим антарктическим делам. А работая в США, Игорь бывал у Боба дома.
После того как Боб, пережив серьезный жизненный стресс, решил начать новую жизнь в диких местах и переехать в штат Мэн, Игорь тоже попал в критическую точку своей линии жизни. У него вдруг обнаружили злокачественную опухоль, рак. Возможно, это был результат его длительной жизни под озоновой дырой в Антарктиде. Поняв, что жить осталось совсем мало, Игорь почувствовал настойчивую необходимость успеть рассказать о том, что он пережил и увидел, до того как уйдет. И он начал лихорадочно писать не столько научные работы, сколько художественные рассказы и книги. Теперь обращение к обычному читателю казалось значительно важнее, чем занятия наукой. Немногим довелось побывать на зимовках в Антарктиде, поработать в США, пожить в Новой Зеландии, познакомиться и подружиться с большим числом прекрасных и необычных людей. Особенно важным казалось рассказать о работе с американцами. Познакомившись и пожив с ними бок о бок в трудных условиях зимовки, Игорь продолжил это общение, работая в научных лабораториях Америки. А еще сдавал экзамены, чтобы подтвердить свои водительские права; путешествовал; случалось, ошибался, нарушал правила и исправлял содеянное. Встречался с американцами по самым разным поводам и в различных обстоятельствах. Он полюбил этих простых, доброжелательных и симпатичных людей, убедился в том, как близка ему их жизнь, их проблемы и то, как они со всем этим справляются. Он вдруг понял, что обязан рассказать соотечественникам обо всем, что испытал. Обуревало страстное желание начать свою личную контрпропаганду против попыток некоторых средств массовой информации СССР представить американцев агрессорами и реальными или потенциальными противниками нашей страны. Тогда это стало для него важнее работы в науке. Он писал, лежа на больничной койке, рассказывал на бумаге о том, что увидел и пережил. И неожиданно, себе на удивление, выздоровел. Потребовалось, правда, побороться, чтобы книги его прошли цензуру и были опубликованы. Лишь в 1984 году вышли в свет две его первые книжки и еще одна в 1989.

Роберт Дейл. Американский летчик и исследователь Антарктиды…

…встретился с русским летчиком и исследователем Антарктиды Игорем Зотиковым. Они стали друзьями.
К тому времени в Советском Союзе уже начались изменения. И когда Боб послал Игорю письмо, сообщая, что он собирается проездом из Европы в Китай заехать на несколько дней в Москву осенью 1988 года, Игорь ответил так: «Постарайся ни в коем случае не связываться с «Интуристом». Я думаю, что это возможно». (У Боба был и личный опыт общения с этой организацией. По его мнению, «Интурист» имел лишь две цели: выжать из карманов иностранцев как можно больше денег и постараться, чтобы они увидели как можно меньше картинок из обычной жизни советских людей). Игорь предложил Бобу попробовать сделать все так, чтобы его путешествие было поездкой в гости с проживанием не в гостинице, а у Игоря дома.
В те времена избежать услуг «Интуриста» было еще нелегко, и Игорю пришлось потрудиться, чтобы получить разрешение на приезд Боба на таких условиях. В результате Боб стал одним из первых американцев, приехавших по частному приглашению и живших в семье простого советского гражданина.
В последний день пребывания Боба в Москве Игорь спросил его, как он смотрит на то, чтобы посетить районное отделение организации, называемой русскими ОВИРом, по первым буквам русских слов: отдел виз и разрешений. ОВИР являлся частью огромного Министерства внутренних дел и отвечал за выдачу виз на въезд в страну иностранцам и на выезд советских граждан за границу. Этот отдел следил также за жизнью и поведением иностранцев в стране. Поэтому само название этого учреждения было неприятно обыкновенному человеку, не важно русскому или иностранцу. Естественно, что работниками этого отдела были офицеры милиции. И все же Игорь убедил Боба, что, по крайней мере в их случае, его районный отдел ОВИРа изо всех сил старался помочь в оформлении визы, и зайти туда им с Бобом и поблагодарить их будет правильным. Игорь почему-то считал, что это будет им приятно, и убедил в этом Боба. Поэтому они пошли туда в хорошем настроении. Их встретили два молодых офицера, знакомых Игорю по его предыдущим посещениям. Когда они узнали, что второй посетитель – тот самый американец, чьи бумаги они помогли продвинуть через машину бюрократии до получения положительного результата, они даже подпрыгнули на своих стульях от удовольствия, закрыли дверь и начали вдруг сами благодарить их за то, что они пришли:
– Понимаете, мы уже оформили несколько разрешений на приезд иностранцев к своим родственникам и даже знакомым. Но мы никогда не знаем наверняка, сработали ли эти приглашения, приезжали ли эти люди, потому что те, кто прослеживает их приезд и пребывание в стране, и мы – разные департаменты, а у нас не считается хорошим тоном интересоваться работой других департаментов. Поэтому спасибо, что пришли. Вообще-то вы первый американец, которого мы видим живьем, а не смотрим на его документы. Спасибо! Спасибо!
В течение долгого времени Боб отвечал на незатейливые вопросы простых людей, которые никогда не видели перед собой живого американца: «На что похожа Америка?», «Трудно ли по ней путешествовать?», «Какой у вас автомобиль?».
Когда они поняли, что американец покидает Москву сегодня вечером, они удивились:
– Почему так рано? Мы позволим вам жить у вашего друга столько, сколько вы хотите!
Объяснив полицейским, что он здесь по дороге в Китай, куда едет поездом, Боб рассказал им о мечте, сидевшей у него в голове десятилетия. Он мечтал посетить китайский город Кантон…
– Почему Кантон?
– Таак… – начал бородатый американец неуверенно. – Таак, во время Корейской войны, когда китайские солдаты непрерывными потоками уже шли через реку Ялу, помогая северной Корее захватить Южную, которую защищали американцы, и китайцы были на грани официального вступления в эту войну, я был пилотом бомбардировщика. Перед моим экипажем стояла задача донести ядерную бомбу до аэропорта Кантона, расположенного рядом с городом. Мы взлетали с авианосца и снова и снова имитировали эту атаку. Надо было довести готовность к выполнению возможного приказа до максимума – ведь это война. К счастью для меня и тысяч и тысяч китайцев (а вообще-то говоря, для всего мира), приказа о применении ядерного оружия не поступило. И сейчас я еду в Кантон, чтобы попасть в эпицентр того планировавшегося удара… Сесть и медитировать, молиться, благодарить Бога, который удержал нас всех от этого шага…
В комнате молодых офицеров ОВИРа стало очень тихо. И тогда заговорил Игорь:
– Как интересно, Боб. Мы ведь никогда не говорили на эту тему. И, слушая тебя, я вспоминал, как примерно тогда же был занят похожим делом. Работал над тем, чтобы можно было донести советскую ядерную бомбу через Атлантический или Тихий океан в отделяемом головном конусе первой русской баллистической ракеты… Никогда не говорил тебе об этом, потому что случая не было. Как и у тебя…
В этот момент и русский, и американец поняли, как близки их жизни при всем множестве отличий. Возникло удивительное ощущение взаимопонимания и близости.
Тронутые услышанным, овировцы какое-то время сидели очень тихо. Потом, вскочив со своих стульев, начали жать руки американцу, желая ему счастливого пути:
– Приезжайте к нам снова, если захотите!
Тогда-то Бобу и Игорю и захотелось вместе написать книгу. Как часто бывает вначале, они не придали этой идее большого значения, но она уже дала ростки. Боб оставил Игорю оформленное как надо письмо, приглашающее того вместе с женой приехать в США в гости. Друзья решили, что для начала они смогут, если советские власти разрешат Зотиковым путешествовать по США хотя бы пару месяцев, перевести одну из уже опубликованных книг Игоря на английский.
В те времена еще не было уверенности, что ОВИР даст разрешение на поездку в США обоим Зотиковым. Ведь всего два-три года назад для гражданина СССР было практически невозможно посетить капиталистическую страну по приглашению друга. И абсолютно невозможно было поехать за границу мужу и жене вместе. Один из них всегда оставался дома в качестве своего рода заложника.
Однако горбачевская перестройка в 1988 году уже работала, появились изменения и в ОВИРе. Игорь показал приглашение Боба одному из дружески расположенных к нему офицеров, чтобы выяснить, возможно ли такое путешествие. Ответ удивил: «Да, конечно. Сейчас этого достаточно». Игорю дали заполнить какие-то не очень длинные формы, попросили принести восемь фото, почтовую карточку с домашним адресом и сказали, чтобы ждал, пока открытка не придет обратно.
– А сколько ждать?
– О-о, два месяца, может быть, немного больше. В начале 89-го года вы ее наверняка получите.
Итак, в январе 1989 года Игорь и его жена Валя получили открытку, на которой стоял официальный штамп, приглашающий их в главный офис ОВИРа за документами. В почтовой карточке не сообщалось, что разрешение на поездку получено, но ниже отпечатанных резиновым штампом слов была сделанная от руки, простыми чернилами, приписка: «И, пожалуйста, захватите с собой по 201 рублю каждому для оплаты пошлины на разрешение на выезд». Так стало ясно, что выезд разрешен и нужно оформлять заграничные паспорта. В тот же день Игорь отправил письмо на остров Хакамок, сообщив Бобу, что, следуя его совету, приедут летом. Оставалась, правда, сущая малость – достать билеты на самолет. Для любого, кто незнаком с ситуацией в СССР 1989 года, вопрос о билетах может показаться пустяком. Но когда горбачевская перестройка внезапно открыла советские границы и полет в США стал возможен для тысяч и тысяч людей, которые мечтали о такой поездке, чтобы повидать родственников, друзей или вообще уехать из страны навсегда, по-прежнему было всего два рейса самолетами «Аэрофлота» в неделю. И это для страны с более чем двухсотмиллионным населением. Свободно обменять русские рубли на иностранную валюту, необходимую для покупки билетов на самолет иностранной компании, было тогда невозможно. Специальное разрешение на такой обмен давалось лишь тем, кто летел в США в служебную командировку.
В кассе продажи билетов «Аэрофлота» Игорь увидел очередь в сотню человек к каждому окошечку кассира и объявление о том, что все билеты были проданы на девять месяцев вперед, вплоть до ноября. Но визы в паспортах Игоря и Вали разрешали покинуть СССР и пересечь границу США в течение шести месяцев со дня их получения, другими словами, нужно было улететь не позднее июня.
В СССР было невозможно заказать билеты на самолет по телефону. И Игорь снова и снова проводил часы в длинных очередях, пытаясь каким-то образом найти все-таки два свободных места на любой самолет. Но после долгого стояния повторялся короткий разговор с приятной девушкой в окошке, которая сообщала то, что он знал заранее: «Все билеты проданы до конца октября. Мы можем лишь поставить ваше имя на лист ожидания. Но при этом никаких гарантий, и вы должны приходить в нашу кассу лично каждую неделю и подтверждать ваше желание лететь. Иначе мы снимем ваше имя с листа. Возможно, ближе к отлету вам повезет…» И Игорь поставил свое имя на лист ожидания на любой самолет на май. Все это многообещающим не выглядело.
Через неделю, простояв в очереди полдня, он снова увидел в том же окошечке ту же девушку:
– Товарищ Зотиков, это не вы писали в журнал «Вокруг света» рассказы о путешествиях в Антарктиду, об американцах и о Новой Зеландии?
– Да, это я! Это я!
Заговорил Игорь скороговоркой, боясь упустить хоть какой-то контакт с девушкой, от которой зависит так много:
– Я, когда вы ушли уже прошлый раз, подумала, что это, наверное, вы. Я люблю ваши рассказы, всегда читаю их. Мне нравится в них авторский подход. Американцы, новозеландцы в них хорошие, такие же как мы, люди. Даже лучше. Мне кажется, я могу помочь вам с вашими билетами, только, пожалуйста, продолжайте писать дальше…
Она поиграла немножко на компьютере, что стоял перед ней:
– У меня на экране сейчас появились два билета на первое мая. По-видимому, кто-то отказался от них. Я могу поставить ваши имена на этот полет. Только думайте быстро. Эти места могут быть взяты другими в любую минуту…
– Да, я беру их…
Вот так Игорь сделал еще один важный шаг к рандеву с Бобом на острове Хакамок.
Следующим шагом была оплата билетов рублями и покупка разрешенного государством количества американских долларов на оплату проживания в США. Самый дешевый билет туда и обратно до Нью-Йорка или Бостона стоил тогда приблизительно две тысячи долларов, или, по тогдашнему обменному курсу, около 1300 рублей. Советский Внешторгбанк разрешил обменять на валюту по четыреста рублей. В результате получилось по шестьсот долларов. Так полная стоимость поездки возросла примерно до трех с половиной тысяч рублей. Огромная сумма, близкая к годовому окладу Игоря. Конечно, у семьи не было и десятой части таких денег.
Но Бог, видимо, в этот раз продолжал быть на их стороне. Незадолго до этого получилось так, что одно из хороших московских издательств выпустило книгу Игоря «Пикник на Аппалачской тропе» о его поездке в Америку. И ему заплатили гонорар, которого было достаточно, чтобы оплатить поездку. Боб, узнав о развитии событий, радостно приветствовал друга по телефону. Во время этого разговора оба решили не тратить время на перевод на английский язык одной из изданных книг Игоря, а вместо этого начать писать новую. О том, как жизнь, которая началась для каждого так по-разному, привела их к встрече, сблизила и, в конце концов, подружила.
И вот Боб и Игорь со своей Валечкой живут, наконец, вместе в маленьком бревенчатом домике, построенном Бобом собственными руками из стволов кедровых деревьев. Он срубил их на другом острове и привез сюда по воде. На Хакамоке растут только ели, сосны да хемлоки – деревья, напоминающие российскую лиственницу. Друзья живут на южном конце острова, обращенном к заливу Хакамок. Рассказывая друг другу свои истории, они пытаются понять, что это – случай или судьба. Как случилось, что американский военный летчик и советский ракетчик сажают вместе фруктовые деревья на скалистом острове у берега американского штата Мэн?
Конечно, они попытались дать название будущей книге. И среди десятков вариантов, которые перебрали, остановились на том, что стоит сейчас в начале книги: «Зимние солдаты». Это случилось, когда Игорь вспомнил прочитанную где-то историю времен американской гражданской войны. Война шла несколько лет в условиях, когда солдаты вступали в армию добровольно, а режим в стране, несмотря на войну, был не строгим, и количество солдат зимой и летом было разным. Летом погодные условия для ведения войны и жизни в поле, в окопах были благоприятнее. Тогда число солдат в строю заметно возрастало. К зиме же многие из них бросали фронт и уходили по домам. Но, что удивительно, существовал тип людей, которые именно к зиме становились заметными среди поредевших солдат, и они-то и держали фронт, копаясь в грязи, замерзая от холода под ударами холодного зимнего ветра с дождем или снегом. А герои летних кампаний сидели в тепле далеко в тылу и отдыхали, готовясь к очередному потеплению. Впервые это было замечено несколько сот лет назад в Европе, где в те времена часто круглый год воевали. Те, кто воевал зимой, «герои» зимних баталий, и получили тогда название «зимние солдаты». Потом, уже во время американской гражданской войны, когда тоже были любители воевать только летом, а на зиму каким-то образом расходиться по домам, оно перекочевало в США. И вот сейчас на Хакамоке Игорю и Бобу стало казаться, что это название им подходит. Во-первых, потому, что они избрали, в конце концов, своей профессией жизнь и работу в постоянной зиме, которая царит в Антарктиде. И еще Игорь сказал Бобу, что он чувствовал свою нужность, да и был более активен в периоды похолодания отношений между их странами. Он чувствовал, что именно тогда, когда многие в его стране отворачивались от Америки, а в Америке – от России, его искреннее стремление удержать дружеские контакты, хотя бы на его уровне, было важно и нужно. А когда наступало потепление в отношениях (например, почти забытый сейчас период разрядки времен Рейгана-Брежнева 1974–1980 годов или сегодняшний период дружбы между нашими странами), когда сотни и тысячи людей, активно участвовавших до этого в холодной войне, вдруг бросались в объятия друг друга и клялись в дружбе Америке и России, а водка и шампанское лились рекой, он чувствовал, что не нужен, здесь и без него тесно. По опыту Игорь знал, что почему-то в эти периоды он оказывался в стороне, как зимние солдаты с приходом лета сотни лет назад в Европе и сто с лишним лет назад в Америке. Боб согласился с этим названием, хоть и условно, и оно осталось. Решили писать книгу, разбив свои жизни на периоды, которые важны и памятны жителям обеих стран. Первый из таких периодов начинался с рождения каждого и оканчивался великой для каждого из нас войной. Для России – Великой Отечественной войной, для Америки – нападением Японии на Пирл-Харбор и многолетней войной с Японией. К сожалению, реального авторства с Бобом не получилось. Связь с ним в последние годы прервалась, и Игорь написал книгу один. А два рассказа Боба приведены Игорем в собственной интерпретации.