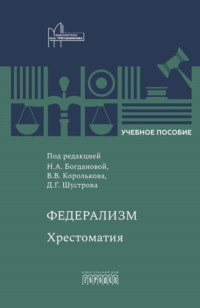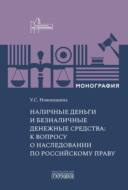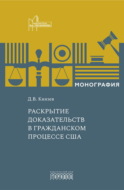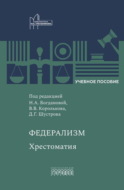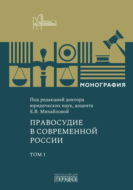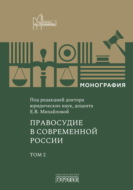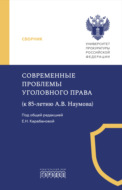Kitobni o'qish: «Федерализм. Хрестоматия», sahifa 2
Деление территории
Государственная территория бывает обыкновенно так обширна, что для политического управления в ней принимаются различные подразделения. В них можно различать четыре главных вида:
1. Области
Провинции римской империи были первоначально самостоятельными территориями, которые подчинялись господству римского государства. И новое деление на области объясняется часто прежним обособлением стран, соединившихся позднее в одно большое целое. Иногда новые провинции создавались государством, к которому принадлежат, но столь же часто, как в немецкой империи, из областей (герцогств) образовались новые государства.
Характеристическую черту этой высшей степени государственного деления составляет во всяком случае относительное государственное обособление этих частей. Вследствие такого обособления они имеют относительно самостоятельное областное управление, которое хотя и подчиняется общему управлению, но пользуется во имя особенного значения области широкими правами. Сверх того, при представительном правлении области имеют свое областное законодательство и областные собрания, ограничивающиеся, правда, особыми интересами области.
Единство нового государства не благоприятствует этому делению. Во Франции, Испании, Англии в настоящее время и в Пруссии уничтожена законодательная особенность областей, в Австрии в так называемых коронных землях она ограничивается главным образом интересами просвещения и хозяйства. Но как ни велик интерес государства в полном и решительном единстве организма однако же совершенное уничтожение областной свободы разрушает много естественных особенностей и потребностей; преувеличенное однообразие легко может повредить народной жизни в ее здоровых и плодотворных частях.
2. Округи
Округи представляют собою еще более крупные деления государства: но они составляют лишь части территории, не имея притязаний быть в то же время, подобно областям, отдельными странами…
…Истинное основание этому делению лежит не в особенности страны или племени народа, а в самом государственном управлении, которое имеет политическую потребность устроить свою деятельность по степеням. Следовательно, это деление составляет по большей части продукт государственного организма, хотя в частности необходимо принимать в соображение историческую связь населения округа и его естественное тяготение. Если области можно сравнить с различными домами, принадлежащими к замку, то округи уподобляются скорее различным этажам дома.
В округах сосредоточивается обыкновенно управление и высший суд.
3. Дистрикты, или уезды
Они составляют обыкновенно подразделение округов и имеют в таком случае особое управление, подчиненное окружному, и среднюю инстанцию суда…
4. Общины городские и сельские с принадлежащими к ним землями
Составляя низшую ступень деления государственной территории, они имеют высокое жизненное значение, представляющее некоторую аналогию с территорией самого государства. Личная (корпоративная) община находится в таком же отношении к своей земле, в каком политически организованный народ – к своей стране. Она наполняет свою землю своею общею жизнью. Конечно, эта жизнь не есть высшая политическая, как жизнь народа, а обращена прежде всего на общие интересы культуры и хозяйства.
Изменения в политическом делении территории составляют дело закона. Государство должно на всех ступенях деления охранять и свои общие интересы и гармонию своего организма. Но чем выше ступень деления, тем решительнее действуют общественные интересы, тем более простора для государства в определении границ. Напротив, низшая ступень, община, находится по своей цели в таких разнообразных и тесных отношениях к существующим общинным корпорациям, что здесь должна быть принимаема в соображение преимущественно их воля. Главные соображения, которыми должно руководствоваться государство при своих делениях, следующие: а) политическая целесообразность деления; в) естественные связи и противоположности, – например речные области и долины, составляющие одно целое; с) исторические отношения населения; d) экономическое тяготение, например, к городу как к центру. Чисто математические соображения, основанные на одном вычислении, имеют лишь второстепенное значение.
Приводится по: Блюнчли И.К. Общее государственное право. Т. I. М., 1865. С. 186–198.
Лабанд Пауль (1838–1918)
Государственное право германской империи и германских государств
Второй раздел
Территория федерации
§ 21. Понятие и конституционная природа
Теоретически нет сомнений в том, что для понятия государства необходима территория; нет сомнений и в том, что государственная власть предполагает господство над этой территорией с публично-правовым содержанием, так называемое территориальное верховенство (Gebietshoheit). Также может употребляться понятие «территориальный суверенитет».
Старую точку зрения относительно природы территориального верховенства, согласно которой оно представляет собой особый элемент государственной власти и содержит индивидуально определенные правомочия, вероятно, можно считать упраздненной. Территория государства образует пространственную сферу власти, в рамках которой государство осуществляет права суверенитета, которыми оно наделено. «Было бы неверно, – пишет фон Гербер – наделять понятие территориального верховенства особым материальным содержанием и желать определить его, например, отдельными мерами государственной власти, имеющими своим практическим объектом землю, как, например, установление регалий, или мерами, относящимися к делению государства на округа или провинции, или к обращению с иностранцами на территории государства. Ибо все это не конкретные проявления территориального верховенства, а акты государственной власти в целом, случайное соприкосновение которых с определенными отношениями не имеет решающего значения»1. Таким образом, территориальное верховенство – это сама государственная власть; тот факт, что она осуществляется на определенной территории, является не частью ее содержания, но ее характеристикой.
Соответственно, возникает вопрос о том, можно ли вообще рассматривать территорию как объект государственной власти; ведь если понимать территориальное верховенство как осуществление государственной власти на территории, то оно не может быть определено как право на собственно территорию. Тем не менее следует признать, что право государства на свою территорию устанавливается и может быть определено как государственно-правовое право собственности. Для того чтобы государство могло выполнять свои обязательства, оно захватывает не только своих граждан, но и землю и подчиняет ее своей силе воли, своей власти. Территориальное верховенство может существовать и проявляться и на необитаемых участках земной поверхности, из чего следует, что территория – это не просто пространственная граница, в пределах которой государство осуществляет свою власть над людьми, но объект самостоятельного права государства. С другой стороны, власть над людьми, какой бы масштабной она ни была, без фактического господства над территорией, как это имеет место в отдельных религиозных орденах, не является государственной властью2.
Как право государства на его подданных, так и право его на территорию являются правами господства. Однако если право господства над подданными находит аналогию властных отношений в семейном праве, то право государства на территорию разделяет с собственностью в частном праве концептуальную характеристику исключительного и полного господства над телесной вещью, различаются лишь характер господства, его цель и содержание3.
Как и собственность, территориальное верховенство проявляется в двух формах, которые обычно называют негативной и позитивной. Первая заключается в исключении любой другой согласованной государственной власти с той же территории. Поскольку она обращена против других государств, ее можно назвать международно-правовой стороной территориального верховенства. Согласно международному праву, территория государства по отношению к другим государствам фактически рассматривается точно так же, как собственность в частноправовых отношениях4. Право господства над территорией как настоящее право собственности составляет историческую основу развития государственной власти, и историческая концепция государства должна принимать территориальный суверенитет в качестве своей отправной точки. Но даже в современной концепции государства как правового порядка национального сообщества территория образует постоянный, неизменный элемент, определяющий индивидуальность государства, в то время как круг граждан подвержен постоянным изменениям. Временна́я идентичность (непрерывность, континуитет) государства основана на контроле над определенной территорией. Точно так же, однако, дело обстоит и с территориальным единством: ведь государственная власть управляет не только гражданами, но и иностранцами5. Позитивная сторона права на территорию заключается в неограниченной власти государства использовать территорию для целей государства, управлять и властвовать над ней6. Оба эффекта взаимозависимы, и ни из них один немыслим без другого.
Если теперь объединить это понятие территориального суверенитета с сущностью федеративного государства, описанного выше, то в результате в праве возникает двойной территориальный суверенитет, аналогичный двойному суверенитету субъекта7. Государства-члены, их земля и народ подчиняются власти закона. Они сохранили свое территориальное верховенство в той мере, в какой они сохранили суверенные права: оно перешло к Рейху в той мере, в какой Рейху объединил суверенные права отдельных государств8. Граница юрисдикции между Рейхом и государствами-членами является в то же время границей, которая отделяет территориальное верховенство Рейха над его территорией от территориального верховенства государств-членов над их территориями.
Приводится по: Laband P. Das Staatsrecht des Deutschen Reiches und der Deutschen Staates. Erster band. Freiburg und Leipzig, 1895. S. 164–167.
Перевод с немецкого языка В.В. Королькова
Шалланд Лев Адамирович (1868–1919)
Юридическая природа территориального верховенства. Историко-догматическое исследование
Введение
§ 1. С понятием территории приходится оперировать как в государственном, так и в международном праве. Здесь, видное место занимает учение об оккупации, о цессии, о завоевании, о так называемых международных сервитутах и т. п.; там, анализ юридической природы государства предполагает для своей полноты, выяснение соотношения, существующего между отдельными его элементами – властью, населением, территорией. Тем не менее едва ли, в области публичного права, найдется другой вопрос, который был бы до такой степени мало разработан и скудно освещен научной критикой, как учение о существе территориального верховенства. За весьма немногочисленными исключениями, теоретики государственного права уделяют ему лишь незначительное место, ограничиваясь краткими замечаниями, по большей части мало касающимися существа дела. О территории в учебниках обыкновенно трактуется мимоходом, как бы для очистки совести; монографическая же литература более чем бедна и не охватывает вопроса во всем его объеме.
<…>
Подобное отношение к вопросу, самому по себе крайне важному и сложному, находит себе объяснение в целом ряде причин. Для теоретиков государственного права центральным понятием, затмевающим до известной степени другие, является государственная власть. Исследование ее природы составляет главную задачу государствоведов, и перед этим элементом государства как бы стушевываются другие. <…>
<…>
§ 2. Неясности и недомолвки начинаются с первого же шага. На самом деле: общепризнано, что в состав понятия государства входят, в качестве необходимых элементов, власть и население. Но обладает ли этим качеством также и территория – в литературе до сих пор представляется спорным.
В античном мире, полис, civitas, являлась, по преимуществу, союзом людей, связанных общностью верований. Государство было там, где были его граждане; оно не имело строго определенного домицилия, оседлости, и подобно тому, как семья остается одной и той же, где бы она в данный момент ни находилась, античный общественный союз – чисто личный – не чувствовал своей связи с той или другой территорией, той или другой местностью. Как справедливо замечает Jellinek: «… территориальному элементу государства древними народами не придавалось никакого значения».
§ 3. В средневековом, патримониально-феодальном государстве исходным моментом государственной и общественной жизни были поземельные отношения. Политические организмы того времени во многом были отличны от современных государств. Государственная власть всегда соединялась с фактическим могуществом, основанным на владении более или менее обширными поместьями. Сюзерен, строго говоря, был лишь вотчинником, облеченным известными правами власти по отношению к населявшему его поместья люду. <…> Самая государственная власть мыслилась не как совокупность всех верховных прав, а как агрегат, более или менее полный, тех или иных правомочий; основой же всех прав, суверенных и других, была земля, поземельная собственность.
При таком положении вещей, само собою разумеется, что территория, материальный субстрат составлял не только существенную принадлежность государства, но и его первичное предположение. Личность, собственника (государя) отступала на второй план: важно было то, чем он владеет. Вся государственная жизнь, весь публично-правовой строй были лишь отражением частных отношений; власть конструировалась как принадлежность земли, и господствующим было территориальное начало.
§ 4. Патримониальная теория государства породила, с течением времени, доктрину абсолютизма. С этой последней точки зрения государство отождествляется с лицом правителя, который мыслится в качестве верховного обладателя всего того, что составляет общественно-государственный союз.
Свое крайнее выражение это направление нашло себя в известных инструкциях Людовика XIV своему сыну … и в афоризме: l’État – c’est moi.
Конструкция государства, отождествляющая это последнее с лицом правителя, как известно, не переводятся и по настоящее время. Воскресли они недавно вновь в теориях Seydel’я и Bornhak’a. Для первого из них государь и государство относятся друг к другу как собственник к его имуществу: государство есть объект обладания, объект власти. У второго – Борнгака – государство и властитель – покрывающие друг друга понятия – и формула «короля солнца» признается единственно правильной, единственно возможной. С этой точки зрения, территория играет ту же самую роль, какая в эпоху ленных отношений выпадала на долю поземельной собственности: она является материальной подкладкой, фактическим предположением государства. Так, для Зейделя государство и властитель (Herrscher) находятся в таком же соотношении как собственник и предмет обладания. Основными же реквизитами государства (begriffliche Erfordernisse) являются: 1) территория (Land) и население, которыми 2) управляет высшая воля.
С неменьшей энергией подчеркивает Борнгак существенное значение территории для понятия государства. Нет, говорит этот автор, государства без определенного, отмежеванного пространства земной поверхности; как раз территориальное основание и отличает государство от кочующего племени и от народа, который, покинув свое прежнее местожительство, ищет себе нового. И такое понимание дела несомненно находится в органической связи с общими взглядами Борнгака, т. е. с конструкцией государства в качестве объекта, подчиненного высшей, над ним стоящей воле.
§ 5. К иным результатам должны неизбежно приходить те теории, которые отождествляют государство с другим его элементом – населением. Это отождествление составляло характерную черту так называемой школы «народного суверенитета», находившейся в тесной связи с рационалистическим учением об естественном праве. С этой точки зрения, существо государства, построенного на договорном начале, заключается в наличности известных отношений между людьми. Территориальные рамки, при этом, отступают на второй план. По совершенно верному замечанию Еллинека во всех определениях, даваемых сторонниками Naturrecht’a о территории не упоминается вовсе. <…>
<…>
§ 6. Всем этим конструкциям, однако, новое время противопоставило другую, зиждущуюся на формальной равноправности всех трех элементов государства. В общем, несомненно, что как патримониальная, так и естественно-правовая точки зрения окончательно отжили свой век. Воззрения, подобные тем, которые проводятся Зейделем и Борнгаком, лишь спорадически появляются в литературе: это – отголоски минувшей старины, имеющие научную ценность – иногда – лишь в качестве реакции против тех или иных увлечений, впадающего в крайность абстрактно-теоретического направления. Но самостоятельного значения за упомянутыми воззрениями признано быть не может. Для современного юриста понятие государства складывается из трех элементов, причем отсутствие одного из них лишает данный союз существенного признака и превращает его в единение другого порядка, чем государство. Эта тесная и неразрывная связь отдельных элементов государства коррелятивна понятию единства и неделимости, ибо единство предполагает взаимодействие и нераздельность составных частей политического организма.
Таким образом, признание за территорией качества существенного признака государственного союза является, казалось бы, логическим и необходимым последствием современного понимания государства.
<…>
Ad 1) Не подлежит никакому сомнению, что ни одно государство не может существовать вне условий времени и пространства.
Где-нибудь, на какой-нибудь территории оно должно быть расположено. Территория, таким образом, является безусловным фактическим предположением всякого общественного строя, равно как и человек не может жить без воздуха и предметов окружающего его мира. Но юридическое понятие лица – субъекта прав и обязанностей – независимо от материальных условий физического существования: в число признаков субъекта права мы, конечно, не введем ни воздуха, ни кислорода.
Вопрос, таким образом, может идти только о том, насколько государству нужна определенная территория, определенный пространственный предел, или, другими словами, насколько территория является существенным признаком, т. е. таким признаком, который необходим для юридической конструкции государства.
Вопрос этот имеет далеко не одно только академическое значение; напротив того, от разрешения его в том или другом смысле в значительной степени зависит внутренняя структура многих публично-правовых институтов. Не забегая вперед, укажем пока в качестве примера на учение о территориальных изменениях. С точки зрения той теории, для которой территория существенный элементе государства, всякое увеличение или уменьшение таковой есть вместе с тем и изменение политического организма; для тех же, кто видит в государственной области лишь фактическое предположение, внешнее условие существования – утрата даже значительной части территории (или приобретение таковой) не отражается на самом государстве. <…>
<…>
§ 9. Предыдущее изложение привело нас к двойному результату. Во-первых, мы убедились, что, за немногими исключениями, современные конструкции государств и государственной власти сами по себе не предрешают вопроса о соотношении между отдельными элементами государства; во-вторых, мы вынуждены были констатировать полную несостоятельность тех доводов, которые приводятся в литературе против признания территории существенным государственным признаком. <…> определенный пространственный предел есть необходимое предположение всякого государственного союза.
<…>
… международное право требует от государства территории; того же должно требовать и право государственное. Категории, при помощи которых оперирует юриспруденция, не могут не быть тождественны во внутреннем и во внешнем праве – это с одной стороны; с другой несомненно, что международное право пользуется теми именно понятиями, которые оно находит готовыми в праве государственном. Но вместе с тем, нельзя отрицать того влияния, которое факт совместного существования многих государств имеет на самое образование этих понятий. <…> Таким образом правовое очертание территория получает только через призму международного права, благодаря множественности наличных политических союзов.
Из этого именно факта и вытекает необходимость неразрывной связи между государством и его материальным субстратом; в нем заключается истинное юридическое обоснование того учения, которое в территории усматривает существенно-необходимый признак государства. Слияние между тремя элементами (власть, население, территория) произошло, если так можно выразиться, сверху, под давлением надгосударственной необходимости; этим как раз и объясняется, что античный мир, не знавший ни принципа равенства государств, ни международного общения, не придавал территориальному началу никакого значения: пределы власти определялись фактическим местопребыванием граждан. Точно также и средние века, с их частноправовым политическим строем, не могли подняться до концепции властвования ex jure publico, вращающегося в определенных территориальных границах. Лишь новому времени суждено было создать и новую юридическую атмосферу, новую статику государственных сил, и вместе с тем установить прочную, неразрывную связь между государствами и ее материальным субстратом.
<…>
§ 12. Рассмотренными свойствами территории, однако, не предрешается вопрос о юридической структуре так называемого территориального верховенства. Какого рода связь существует между властью и материальным субстратом государства? Каково взаимоотношение его элементов?
Мыслимы два решения вопроса.
I. Государство в своих отношениях к территории уподобляется лицу, владеющему поземельной собственностью, недвижимостью. Территория с этой точки зрения является объектом обладания, вещью, и права над нею носят характер вещных правомочий. По существу, территориальное верховенство является видом права собственности; межгосударственные отношения, поскольку они касаются территории, совпадают – mutatis mutandis – с теми, которые существуют между отдельными людьми. Структура их, таким образом, частноправовая, и регулирующие их нормы могут иметь только цивильный характер.
II. Территория является не объектом обладания со стороны государства, а пространственным пределом властвования. У государства нет прав на территорию, а есть только права в ней, внутри нее. При такой постановке вопроса, частноправовым элементам в данной области нет места. Аналогии из гражданского права ничего разъяснить не могут, и отдельные институты публичного права– как государственного, так и международного – требуют самостоятельных конструкций, основанных на понятии imperium, в отличие от dominium.
Между этими двумя пониманиями существа территориального верховенства лежит, как видно, огромная пропасть. Этим различием предопределяется целый ряд построений, в особенности в сфере международного права. Само собою разумеется, что, напр., учение о приобретении территориальных владений должно иметь совершенно другой облик при частноправовой конструкции территории, чем при публично-правовой; в первом случае речь будет идти об увеличении имущества государства, о распространении его dominium, во втором – о расширении компетенции ratione loci, о распространении imperium. В зависимости от исходной точки зрения, теория оккупаций, уступки, учение о международных сервитутах и мн. др. получают различную окраску, различное юридическое очертание.
В современной литературе первая из вышеупомянутых конструкций, т. е. понимание территории как объекта обладания, является решительно господствующей. В области государственного права ее придерживается безусловное большинство писателей, а в доктрине права международного до сих пор можно отметить лишь слабые голоса протеста, совершенно подавляемые стройным хором сторонников классического воззрения. Такое положение вещей объясняется историческими условиями развития понятия территориального верховенства. Было время – и сравнительно не столь далекое, – когда весь государственный строй зиждился на частноправовых устоях, когда территория совпадала с собственностью и действительно была объектом обладания; было время, когда и межгосударственные отношения были лишь отношениями между крупными поземельными собственниками – сюзеренами, когда относящиеся сюда нормы по необходимости носили цивилистический характер. Но – tempora mutantur. Феодализм и патримониальное государство отошли в вечность, на их развалинах воцарилось новое государство, а с ним всплыл наружу и новый комплекс понятий. Прежние рамки оказались неподходящими, пришлось отказаться от устарелых построений, не соответствовавших больше народившимся потребностям государственной жизни.
Но теория, в данном случае, не поспела за жизнью. Долгое время еще после того как исчезли те предположения, которые являлись реальным основанием для прежних конструкций, в науке продолжали держаться взгляды, в корень расходившиеся с новым положением вещей. Лишь крайне медленно и осторожно доктрина решилась пойти по новому пути; как бы неохотно расставаясь с преданиями старины, долгое время продолжала она вращаться в круге старых понятий, как бы намеренно игнорируя действительность. Но и в наши дни эволюция не может считаться законченной. Конечно, теперь уже государство не отождествляется больше с собственником поместья – власть его конструируется как imperium, но тем не менее и современная доктрина не может отрешиться от теории права на территорию, навсегда расстаться с прежним понятием государственной власти. Правда, это право стремятся определить как «публично-вещное» притязание (öffentliches Sachenrecht) – но от этого дело мало меняется: из-под нового названия по-прежнему продолжает сквозить старое, средневековое содержание.
<…>