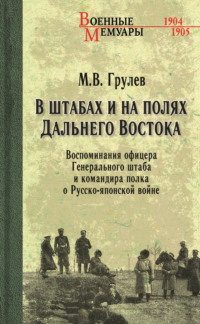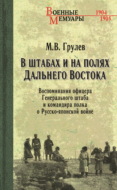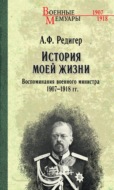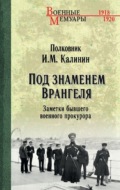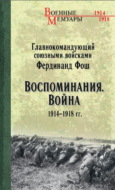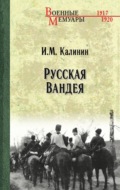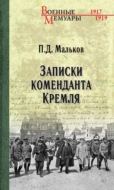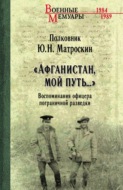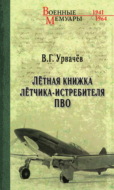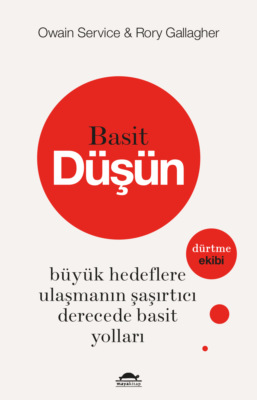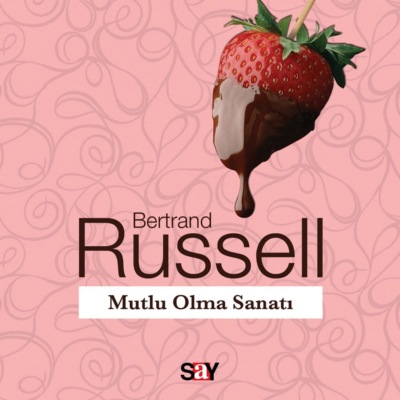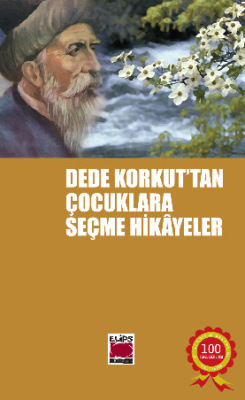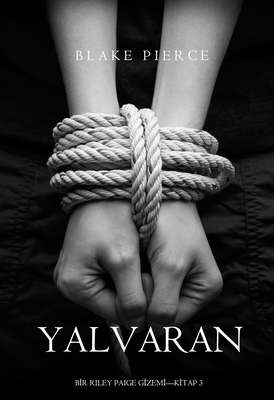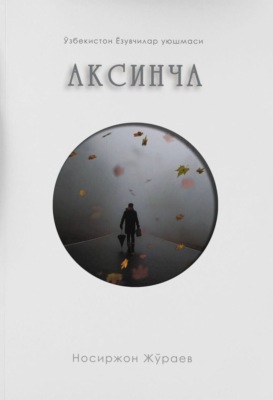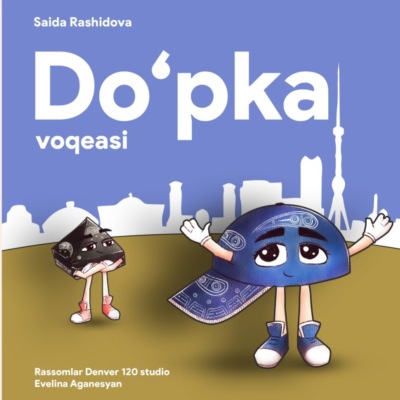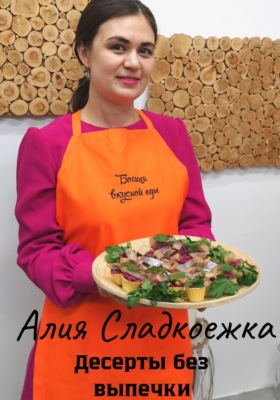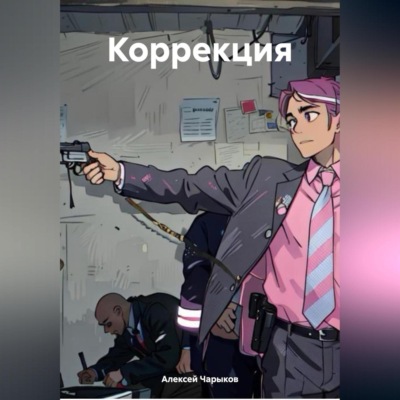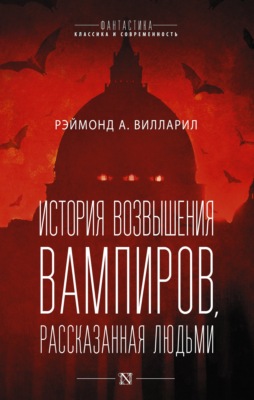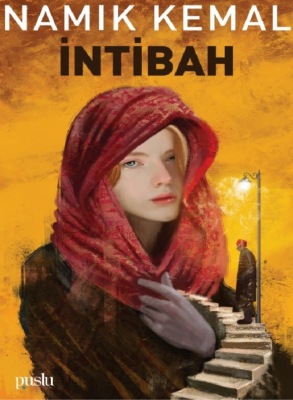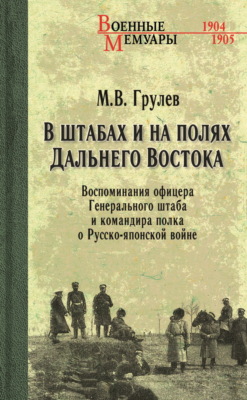Kitobni o'qish: «В штабах и на полях Дальнего Востока. Воспоминания офицера Генерального штаба и командира полка о Русско-японской войне», sahifa 4
Японское правительство никак не могло вообразить, что действия адмирала Алексеева встретят поддержку со стороны русского правительства в Петербурге; тем не менее, в конце концов, последнее слово в переговорах было все-таки предоставлено исключительно наместнику.
Занятие Маньчжурии русскими войсками было произведено под предлогом возникших боксерских беспорядков и необходимости обезопасить Восточно-Китайскую железную дорогу. Если даже допустить, что это предлог вполне законный, то для него не было уже никаких оснований в конце 1903 года. А между тем Россия продолжала даже увеличивать число своих войск в Маньчжурии. Она продолжала занимать Ньючванг, который относится к портам, формально открытым китайским правительством для иностранной торговли, угрожая этим непосредственно неприкосновенности Китая. Японцы занимали уже Ньючванг в 1900 году, и если бы тогда другие европейские державы приняли в этом городе указывавшиеся предосторожности, то впоследствии не возникло бы вовсе необходимости занятия его русскими войсками. Не довольствуясь сосредоточением в своих руках администрации города, русские власти завладели также и таможней, доходы которой прибрали на хранение в Русско-Китайский банк; овладели также и обратили в свою пользу доходы от джонок, что составляет в общем значительную сумму, принадлежащую китайским властям. Вопреки неоднократно повторявшимся обещаниям со стороны русского правительства об эвакуации Ньючванга не видно было, однако, никаких признаков исполнения этого обещания. В результате такого порядка вещей иностранная торговля в упомянутом городе встречала затруднения в явное нарушение договорных прав иностранных держав.
Согласно конвенции, заключенной между Россией и Китаем, первая обязалась эвакуировать свои войска из Маньчжурии и передать провинцию обратно в руки китайских властей; но в то же время порт-артурские власти всякими путями добились заключения нового соглашения с мукденским цзянь-цзюнем, обязав китайских губернаторов распустить часть войск, имевшихся в их распоряжении. Эта последняя мера и прямо и косвенно привела к увеличению в занятой провинции грабежей и беспорядков, потому что увеличилось число хунхузских шаек насчет расформированных войск; а русское правительство ссылалось на эти факты как на обстоятельство, препятствующее эвакуации русских войск в указанные сроки.
Любопытно и то, что при своих экспедициях против хунхузов русские власти при поимке не подвергали их наказаниям, а давали им свободу, привлекая их в то же время к себе на службу. Согласно заключенным с Китаем трактатам, японские подданные пользуются правом свободно путешествовать по Маньчжурии и заниматься разными предприятиями, а на самом деле японцы в осуществлении своих прав встречали препятствия всякого рода со стороны русских властей. Несмотря на все эти препятствия, интересы японцев и по своим размерам, и по ценности значительно увеличивались в Маньчжурии.
Вознамерилась Япония заключить с китайским правительством торговый договор и сейчас же встретила препятствия со стороны России, представитель которой в Пекине воспротивился открытию для иностранной торговли таких городов в Маньчжурии, которые должны были быть уже очищены от русских войск и переданы во власть китайской администрации. В конце концов японским дипломатам удалось все-таки заключить необходимый договор, вопреки препятствиям России.
Необходимо иметь в виду, что жизненные интересы Японии в Корее в значительной степени зависят от неприкосновенности Китая в Маньчжурии. Настаивая на необходимости эвакуации Маньчжурии, японское правительство стремилось обезопасить этим свое положение в Корее; тем более что Россия не имела никаких договорных прав на оставление своих войск в Маньчжурии. Эвакуация должна была коснуться также и войск железнодорожной охраны, потому что, согласно пункту 2 маньчжурской конвенции, предусматривалось, между прочим, обязательство китайского правительства принять на себя охрану Восточно-Китайской железной дороги и ее сооружений после ухода из Маньчжурии русских войск. Так гласит п. 5‑й конвенции с обществом упомянутой дороги, заключенной 27 августа 1896 года; этим пунктом соглашения указывалось на охрану железной дороги китайскими властями, согласно действующим китайским законам, которые, конечно, отнюдь не имели в виду охрану железных дорог в Китае русскими войсками.
Что касается Кореи, то Япония давно уже заняла там особое, исключительное положение; тем не менее японское правительство отнюдь не делало в этой стране каких-нибудь предосудительных шагов, которые могли быть истолкованы как угрожающие неприкосновенности корейской территории или независимости самой Кореи. Первоначальная независимость Кореи была достигнута Японией после войны с Китаем; и с тех пор во всех своих договорах с другими державами вопрос о независимости Кореи ставится японским правительством всегда на первое место. Взаимные отношения Японии и России в Корее были урегулированы особым договором 25 апреля 1898 года, который гласит следующее:
I. Императорские правительства Японии и России признают полную самостоятельность и независимость Кореи и взаимно обязуются не вмешиваться во внутренние дела этого государства – ни прямо, ни косвенно.
II. Дабы избежать в будущем всяких недоразумений, оба императорские правительства обязуются, в случае, если корейское правительство обратится к одной из договаривающихся сторон за советом или помощью, как, например, присылка военных инструкторов или финансовых советников, не принимать никакого решения, не посоветовавшись с противной стороной и не придя к соглашение с нею.
III. Принимая во внимание значительное развитие японских торговых интересов в Корее и пребывание там многочисленных японских подданных, русское правительство обязуется не препятствовать никоим образом дальнейшему развитию торговых и промышленных сношений Японии и Кореи.
Одной из важнейших побудительных причин заключения конвенции между Японией и Англией в 1903 году было желание поддержать неприкосновенность и независимость Кореи. Это – главная цель, которая постоянно имелась в виду политикой Японии в отношении Китая и Кореи.
Несмотря, однако, на то, что, согласно приведенному выше договору, Россия обязалась не препятствовать развитию японских торговых интересов в Корее, русские посланники в Корее в последнее время не упускали случая, чтобы так или иначе помешать всячески всем предприятиям японцев, пуская для этого в ход все свое влияние на корейских министров. Характерным примером в этом отношении служит старание русского посланника в Корее помешать осуществлению японцами концессии, полученной от корейского правительства на постройку железной дороги от Сеула на Вичжу, несмотря на то, что Япония уже получила преимущественные права на постройку рельсовых путей на корейской территории еще по конвенции, заключенной в июне 1898 года.
Когда японское правительство добивалось от Кореи открытия для иностранной торговли порта Вичжу, то главное препятствие встречено было опять со стороны России, не желавшей допустить успеха Японии в ее домогательствах. Не ограничиваясь, однако, пассивным сопротивлением всем предприятиям Японии, Россия обнаружила явные признаки к насильственному захвату части корейской территории, – по примеру того, как она это делала в Маньчжурии, угрожая этим непосредственно неприкосновенности Кореи.
Такие стремления России сказались наглядно в отношении корейского города Мозампо. Город этот расположен на берегу Цусимского (Корейского) пролива, насупротив японского побережья о-ва Цусимы. Стратегическое значение этого пункта ясно само собою и всегда высоко ценилось японским правительством. Ничто не могло так обострить отношений между Россией и Японией, как стремление овладеть каким бы то ни было путем участками территории около Мозампо. Попытка в этом направлении сделана была русским правительством еще весною 1900 года через своего посланника в Сеуле г. Павлова, того самого, который незадолго перед тем добился в Пекине уступки Порт-Артура; и нельзя сказать, что эта попытка тогда не имела успеха. Не довольствуясь этим, русские власти продолжали делать захваты в Северной Корее, не обращая никакого внимания на протесты корейских властей; и такие захваты не прекращались даже и в то время, когда русское правительство вело свои переговоры в Токио.
Между тем независимость Кореи представляет собою жизненный вопрос для будущности Японии.
В конечном выводе официальное сообщение японского правительства по случаю начатой войны с Россией гласит:
Для безопасности и преуспеяния Японии в будущем необходимо оберегать неприкосновенность и самостоятельность Кореи, в которой и теперь уже интересы Японии получили значительное развитие. Ввиду этого японское правительство не могло допустить в этой стране никаких действий, угрожающих безопасности ее независимости и территориальной неприкосновенности. Эта угроза явилась со стороны России, которая, несмотря на свое торжественное заявление и вопреки неоднократным уверениям, данным иностранным державам, не только продолжала занимать Маньчжурию, но обнаружила агрессивные действия и в Корее. Между тем независимость Кореи не может быть обеспечена в случае присоединения Маньчжурии к русским владениям. Это обстоятельство несомненно признавалось и самой Россией, потому что еще в 1895 году русское правительство выставляло на вид, что не может согласиться на присоединение Ляодунского полуострова к Японии, так как это послужило бы постоянной угрозой столице Китайской империи, а также и независимости Кореи.
Озабочиваясь постоянным сохранением мира на Дальнем Востоке, японское правительство, под влиянием упомянутых обстоятельств, обратилось в минувшем июле (1903) к русскому правительству с предложением обсудить этот вопрос с целью согласования обоюдных интересов России и Японии путем дружественного соглашения непосредственно между обеими державами, на что со стороны России последовало согласие. Ввиду этого японское правительство через своего посланника в Петербурге представило 12 августа на рассмотрение русского правительства проект соглашения, которое базировалось на следующих пунктах:
I. Взаимное обязательство обеих договаривающихся сторон признавать независимость и территориальную неприкосновенность империй Китайской и Корейской.
II. Взаимное обязательство признавать в упомянутых странах одинаковые права торговые и промышленные для всех наций.
III. Взаимное обязательство признать преобладающие интересы Японии в Корее и специальные интересы за Россией в отношении постройки железных дорог в Маньчжурии. Обе договаривающиеся стороны имеют право, в интересах обеспечения упомянутых выше привилегий, принимать в случае надобности меры, которые ими признаны будут необходимыми, – при условии, что эти меры не противоречат основаниям, указанным в статье I.
IV. Россия признает за Японией исключительное право давать корейскому правительству необходимые советы и помощь в интересах введения реформ и улучшения административного строя.
V. Обязательство со стороны России не препятствовать японскому правительству продолжить корейские железные дороги в Южную Маньчжурию, с целью связать эти дороги с рельсовыми путями Маньчжурии – Восточно-Китайской, Шанхайгуаньской и Ньючвангской железными дорогами.
По вышеупомянутым пунктам японское правительство стремилось организовать совещание в Петербург непосредственно между японским посланником и русскими властями. Этим путем, несомненно, облегчился бы в значительной степени и успешный ход переговоров и окончательное соглашение. Русское правительство, однако, не обратило должного внимания на приведенное выше предложение, и самые переговоры, ввиду путешествия царя за границу и по другим причинам, крайне затянулись, поэтому категорически решено было вести переговоры в Токио. Только 3 октября получен был от России основательный ответ, заключающий в себе контрпредложения по затронутым вопросам.
В своем ответном предложении русское правительство, однако, отклоняет от себя обязательство признавать территориальную неприкосновенность и верховные права Китая в Маньчжурии; оно не согласилось также признать принцип полного равенства прав в отношении торговли и промышленности в Маньчжурии. Мало того, Россия требовала от Японии, чтобы она признала Маньчжурию целиком находящейся совершенно вне сферы ее интересов, и с своей стороны ставила ряд ограничений свободе действий Японии в Корее. Допуская, например, право Японии на посылку войск в Корею в случае необходимости, русское правительство в то же время не соглашалось на возведение японских укреплений на корейской территории.
Наконец, русское правительство в своих предложениях дошло до того, что полагало возможным отмежевать нейтральную зону на корейской территории к северу от 39‑й параллели.
Японское правительство никак не могло понять, почему это русское правительство, так часто возвещавшее до того времени, что оно чуждо всяких намерений на присоединение Маньчжурии к своим владениям, теперь отказывается включить в проектируемое соглашение такой пункт, который совершенно гармонирует с неоднократными заявлениями России об уважении ею верховных прав и территориальной неприкосновенности Китая. Этот отказ русского правительства служил верным указанием на значение этого пункта и на настоятельную необходимость включения его в проектируемое соглашение. Никак не могло японское правительство согласиться и на признание Маньчжурии вне сферы своего влияния, потому что и теперь уже Япония имеет в этой стране важные интересы, торговые и промышленные, питая основательную надежду на дальнейшее их развитие, благодаря оживленным торговым сношениям Маньчжурии и Кореи. По справедливости, интересы Японии в Маньчжурии более значительны, чем интересы России.
Ввиду изложенного японское правительство самым решительным образом должно было отклонить предложение России, предложив с своей стороны некоторые поправки к контрпредложениям России, – в частности, в отношении учреждения нейтральной зоны – на возможность учреждения такой зоны не посреди Кореи, а на границе с Маньчжурией, отмежевав для этой цели нейтральную пограничную полосу по обе стороны границы шириной около 50 километров, с каждой стороны.
После дальнейшего продолжения переговоров в Токио японское правительство, наконец, сформулировало свои окончательные требования, которые предъявило 30 октября, и затем неоднократно просило русское правительство поспешить, насколько возможно, ответом; это последнее, однако, медлило с ответом и дало таковой лишь 11 декабря.
В своей ответной ноте русское правительство как бы обходит все, касающееся Маньчжурии, и делает Корею центром переговоров, продолжая поддерживать свои первоначальные требования об учреждении в Корее нейтральной зоны и обязательстве Японии не возводить на корейской территории укреплений со стратегической целью.
Этот ответ России отклонял предмет переговоров, начатых с целью предотвратить возможность разрыва между обеими державами и установить взаимное соглашение, относящееся одинаково и к Корее, и к Маньчжурии.
Японское правительство поэтому, в ответ на предложение России, просило пересмотреть этот вопрос, отклоняя от себя требуемое обязательство относительно права возведения укреплений на корейской территории и указывая на невозможность проведения нейтральной зоны на корейской территории, если такая пограничная полоса не будет проведена также и на территории Маньчжурии, примыкающей к границе Кореи.
Последний ответ России был получен в Токио 6 января. В этом ответе русское правительство предлагает включить в соглашение следующий пункт: Япония признает Маньчжурию и ее приморское побережье находящимися вне сферы ее интересов. Россия со своей стороны не будет препятствовать Японии и другим державам пользоваться внутри Маньчжурии теми правами и привилегиями, которые вытекают из трактатов, заключенных с Китаем, но без права устройства в городах сеттльментов (то есть иностранных кварталов, пользующихся особыми правами). Делая эти уступки, русское правительство поддерживало свои требования о включении в проектируемое соглашение пунктов, относящихся к признанию нейтральной полосы только на корейской территории и запрещению Японии возводить в Корее укрепления со стратегической целью. Требования эти не могли быть приняты Японией. Вдобавок русское правительство в своем ответе совсем замалчивало вопрос о признании территориальной неприкосновенности Китая в Маньчжурии. При таких условиях и упомянутые выше уступки России внутри Маньчжурии теряли практическое значение, – потому что права и привилегии, приобретенные державами в Маньчжурии в силу трактатов, заключенных с Китаем, имеют значение и смысл лишь до тех пор, пока сохраняются в этой провинции верховные права самого Китая и уничтожаются сами собою с присоединением Маньчжурии к русским владениям.
V
Из приведенных выше официальных объяснений с обеих сторон причин возникновения войны ясно, что с самого начала и до конца переговоров оба правительства стояли на разных полюсах и соглашения быть не могло: русское правительство устраняло всякое вмешательство Японии в дела Маньчжурии, стремясь в то же время сохранить за собою старую позицию в Корее; с другой стороны, японское правительство отстраняло Россию от Кореи, домогаясь права вмешательства в хозяйничанье России в Маньчжурии. Это непримиримое противоречие интересов России и Японии явилось естественным последствием нашей политики на Дальнем Востоке в последние 10—15 лет. Весьма наивно было без войны предлагать японскому правительству создать нейтральную зону в Корее в 1903 году, после того, как Японии ценою кровопролитной и победоносной войны удалось уже вытеснить с полуострова своего векового соперника. Но то, что оказалось невозможным в 1903 году, могло несомненно получить совершенно иное решение в конце 80‑х и в начале 90‑х годов, когда Корея целиком тяготела к России, – если бы наши государственные задачи на Дальнем Востоке не нарождались в виде легкомысленных импровизаций.
Главная вина наших дипломатов кроется, однако, не столько в ложном понимании задач России на тихоокеанском побережье, сколько в легкомысленном уверении, что «опасности войны нет», – когда переговоры чуть ли не заведомо направлялись к войне.
26 января, в 9 часов вечера, адмирал Алексеев телеграфировал в Петербург: «в Артуре все благополучно», а через полчаса нападением японских миноносцев на нашу эскадру началась война…
Глава III
Подготовка к войне
Общая характеристика подготовки к войне Японии и России. Подготовка морских и сухопутных сил
Как сказано выше, к войне с Россией Япония начала готовиться сейчас же после Симоносекского договора с твердой целью опередить Россию своими вооружениями, выбрать для себя наивыгоднейшую минуту для объявления войны и тем обеспечить себе первый залог победы. Уже в 1895 году японское правительство сделало первый заказ американским судостроительным заводам и затем в течение всего лишь семи лет, до 1903 года, осуществила не одну, а две судостроительных кампании; так что в короткое время японский флот оказался сильнейшим в водах Великого океана.
С какою лихорадочною поспешностью начаты были эти вооружения, видно из того, что едва лишь Япония успела закончить войну с Китаем, как сейчас же были вызваны из Америки представители наиболее крупных судостроительных фирм, которым сделаны были большие заказы на постройку судов военного флота. Знаю это непосредственно от этих представителей, – генерала Вильямса, одного из директоров «Union iron work» в С.-Франциско, и мистера Смита, хозяина другой фирмы из Филадельфии, – с которыми мне пришлось ехать вместе из Японии в Америку после получения ими заказов. Американцы дивились, против кого направлены эти вооружения. Завоевательным стремлениям Японии помешала не одна Россия, а также и Германия, и Франция, которые заодно с Россией воспротивились упрочению японцев на материке Азии. Тем не менее было очевидно с самого начала, что важнейшим противником, выступившим против осуществления заветных стремлений Японии, была Россия, которая в силу своего стихийного движения на Восток, к побережью Великого океана, не пожелала допустить, чтобы в близком соседстве на материке Азии выросла в лице Японии новая сила, с которой рано или поздно пришлось бы считаться. Сознавая это вполне, японцы с своей стороны видели в одной России главное препятствие к осуществлению их политических задач.
Необходимо заметить, что рядом с этими усиленными вооружениями Японии слабость наших морских сил на тихоокеанском побережье была очевидной для всех русских людей, не ослепленных тупым шовинизмом и превратным пониманием самых простых вещей в военном деле. Невольно вспоминается оживленный бал на японском адмиральском судне, данный японской эскадрой служилой знати г. Владивостока, при посещении эскадрой этого города в августе 1895 года: указывая на гигантское орудие, выглядывавшее из круглой стальной башни, занимавшее по длине почти треть палубы огромного броненосца, один из наших командиров военных судов с грустью признавал, что одно это судно может испепелить Владивосток в три часа, так как у нас не только на судах, но и на береговых батареях, тогда еще только возникавших, нет ни одного орудия такого калибра.
Нравы, обычаи и взгляды, господствовавшие среди наших моряков, таковы, что об этом не хотелось бы говорить вовсе. Для каждого беспристрастного человека было очевидно, что наша морская «сила» до корня изъедена тлей всякого рода. Таково было мнение людей не только посторонних, чуждых ложного морского патриотизма, но и сами моряки были о себе и своих порядках невысокого мнения: нам неоднократно приходилось слышать в 1893 году от бывшего командира «Разбойника»11 кн. У-го12 самое беспощадное осуждение господствовавших во флоте беспорядков и хищений, узаконенных вкоренившимися взглядами и круговым покрывательством. Такие же отзывы о своем «сумбурном роде оружия» приходилось слышать и от покойного Н.А. Астромова, командира «Сивуча», от Н.И. И-а, командира «Корейца»13, и от многих других.
«Не будет у нас толку; единственный выход, чтобы водворить у нас что-нибудь крепкое, это – отдать нас под державную десницу Петра Семеновича» (Ванновского)14, – обыкновенно заканчивали сами моряки критику своих порядков…
Все были того мнения, что источником всех зол является пресловутое цензовое плавание. Какой толк может получиться из такого плавания, когда судно военное обращается для командира в своего рода почтовую станцию для продолжающего свое путешествие путника. Командир знает, что он является на судне хозяином лишь короткое время для цензовой выслуги, после которой он обязательно уступает место другому. При таких условиях военное судно является не столько орудием боя, сколько инструментом для выслуги следующего чина. По собственному признанию командиров судов, все внимание их во время командования обращено лишь на выгадывание остатков от угля, смазки, краски, пакли и т.д. На изучение судна времени не остается; да это и не представляется столь существенным, обещающим ближайшие непосредственные результаты. Неудивительно поэтому, что командиры судов являлись весьма часто на командуемых ими судах в виде заезжих гостей, не только не имеющих понятия о неизбежных особенностях своего корабля, о его сильных и слабых сторонах, но часто не могущих даже ориентироваться на командуемом ими судне – попасть туда, куда хочется без помощи проводника.
У нас принято даже в отношении солдатской винтовки установившееся требование, что солдат должен знать свою винтовку, то есть знать ее особенности, присущие каждому отдельному экземпляру. Без лишних слов понятно, что современные броненосцы таят в себе неизмеримо более сложные особенности, имеющие огромное значение при управлении судном. Чтобы сколько-нибудь изучить гигантские плавучие крепости с бесчисленным множеством в высшей степени сложных механизмов, едва ли достаточно было бы и всего служебного века морского офицера; а тут является готовый «командир», призванный управлять этим судном с его многочисленными машинами, не только не имея никакого понятия о норове, об особенностях данного броненосца – что возможно узнать лишь после продолжительного на нем плавания, – но часто не зная просто, что есть на судне и чего не имеется. Неудивительно при таких условиях, что у нас так часты аварии даже под Петербургом и Кронштадтом, – что даже по дороге в Петергоф со своим министром командиры судов сбиваются с надлежащего пути и терпят крушение.
Все это неминуемо обусловливается полнейшим сумбуром, внесенным в последние десятилетия в организацию прохождения службы по морскому ведомству. В прежнее время существовал особый корпус штурманских офицеров, которые иногда весь век свой служили на одном и том же судне, составляя как бы нераздельную с ним часть; офицеры эти знали все мельчайшие особенности своего корабля и являлись вполне сведущими по части кораблевождения, выделяя из своей среды оставшийся ныне лишь в преданиях тип «морского волка».
В настоящее время при чрезвычайно усложнившихся машинах и механизмах современного боевого судна дело кораблевождения стало гораздо сложнее; но прежних штурманов уже нет, ибо наши реформаторы морского ведомства предъявили разумное в теории, но неосуществимое на практике требование: на судне каждый офицер должен знать все – и штурманскую часть, и минное дело, и артиллерийское и проч. При сложности устройства нынешних морских боевых судов это недостижимо; и в результате морские офицеры не знают ничего сколько-нибудь сносно из того, что они обязаны знать. Это не мешает, однако, морским офицерам и командирам проникнуться апломбом всеведения: недавно, в апреле текущего года, на столбцах даже «Русского инвалида» – то есть перед читателями сухопутными офицерами – моряк-офицер проговорился, что среди морских офицеров укоренилось убеждение в их превосходстве в отношении универсальности знаний и образования вообще над офицерами сухопутными.
Следуя провозглашенному свыше принципу обязательности всезнания, командир военного судна в 1889 году, ничтоже сумняшеся, высадил своего врача на берег в Шанхае, уверяя, что «на военном судне нет и не может быть ничего такого, чего не знает командир…».
Таким образом по логике наших смелых морских реформаторов вышло так, что когда военные суда были проще, то для них требовались разные специалисты, а когда военно-морская техника значительно усложнилась, то оказалось возможным упразднить совершенно обязательность специальных знаний. Неудивительно поэтому, что умудренный горьким опытом адмирал Рожественский в № 45 журнала «Море» в отношении характеристики личного состава морского ведомства приходит к такому печальному выводу: «Система образования личного состава настолько устарела, что если б лучшими нашими людьми укомплектовать в настоящее время эскадру из «Dreadneugh’ов», идеально построенных и образцово снаряженных за границею, то такая эскадра, вследствие недостаточного развития и навыка личного состава, прогрессивно теряла бы боевое значение и при столкновении с равным числом более старых линейных кораблей любого из первоклассных флотов была бы разбита наголову…»
Нам, сухопутным офицерам на Дальнем Востоке, приходилось часто с горечью видеть и слышать про постоянные аварии наших военных судов в домашних внутренних водах на рейде Владивостока, в заливах Амурском, Аскольда, которые, казалось бы, наши моряки должны бы знать как свой собственный двор. И – что всего хуже – все эти аварии, имевшие часто в основе преступную небрежность или полное невежество в своем деле, оставались постоянно совершенно безнаказанными; а затем еще хуже то, что эта безнаказанность организована законом, с заранее обдуманным намерением низвести на нет наказания за такие аварии: потому что простой наивности со стороны законодателя трудно предположить, когда заботливо устроено заранее круговое поручительство в общей безнаказанности.
Случилась, например, авария с «Манджуром»15; отдается приказ о назначении суда, а членами суда собираются командиры «Корейца», «Сивуча», «Разбойника» и т.д., которые разбирают и судят – виноват ли тут их близкий друг и товарищ в какой-нибудь небрежности, или тут действовали пресловутый «forces majeures»16 – спасительная для моряков стихия, покрывающая все и всех. Помимо чувств дружбы и товарищеской солидарности приговором членов суда в подобных случаях руководит еще обязательность взаимной выручки, – потому что завтра же может случиться авария с судном кого-нибудь из членов суда, и ему придется поменяться ролью с подсудимым. Ясно, что при таких условиях приговоры суда отличаются всегда крайней снисходительностью, – чтобы не сказать больше – оставляющей почти совершенно безнаказанными явную небрежность, а иногда и заведомую преступность по службе.
Высказанная здесь мысль, как нам кажется, едва ли требует для подтверждения ссылку на какие-нибудь факты; кто их не знает, не наблюдал сам, не слыхал, или не читал про массу печальных курьезов этого рода, давно уже ставших притчей во языцех даже среди самих моряков. Но, чтобы не быть совершенно голословным, я приведу на выдержку пару таких фактов из числа многих других, имевших место во Владивостоке в короткое сравнительно время. Прислало морское ведомство – кажется, в 1890 году – ледокол «Силач» для пропуска в зимнее время приходящих судов из открытого моря в замерзший рейд Владивостока. Проработав с грехом пополам одну-две зимы, с постоянными авариями и починками, «Силач» окончательно занемог зимою 1893 года и почил затем от всяких трудов; причина заключалась в том, что когда в разгар рождественских праздников потребовалось сдвинуть «Силача» с места среди замерзшего кругом льда, положили динамитные патроны слишком близко к носу ледокола и вместо льда взорвали нос собственного корабля. Случился такой казус во время рождественских праздников, после шумного пиршества в кают-компании; поэтому суд, конечно, был снисходителен к таким смягчающим вину обстоятельствам. Злые языки, однако, утверждали, что экипаж «Силача» весьма доволен тем, что динамитные патроны легли ближе, чем следует, к носу ледокола: представьте себе, в самом деле, положение моряков зимою: товарищи все на берегу, отдыхают после летних трудов; тут, кстати, Святки – хочется попраздновать кому с кумой, в матросской слободке, а кому за кадрилью с «предметом страсти» в морском собрании и – вместо всего этого – не угодно ли разводить пары и как глупый маятник двигаться взад и вперед в лютый холод среди льда, по узкому каналу… Весьма естественно, что экипаж «Силача» был весьма доволен происшедшим казусом с повреждением носа своего ледокола; так не в пример приятнее: морское довольствие идет само собою, а тем временем гуляй на берегу, пока произведут ремонт; а тут и лето, – ледокола работа кончается.
Bepul matn qismi tugad.