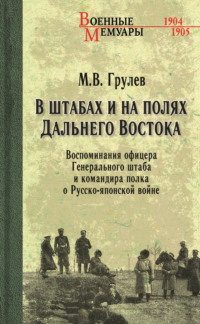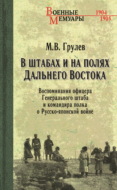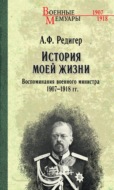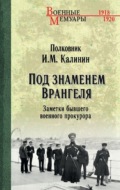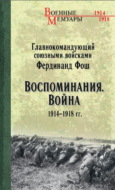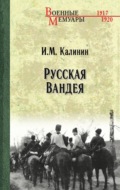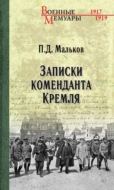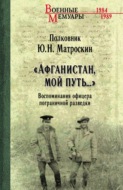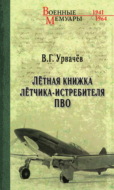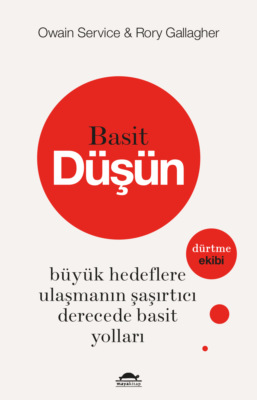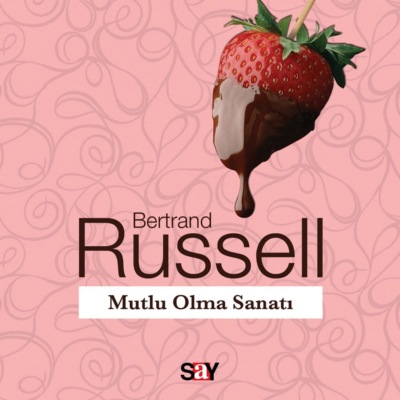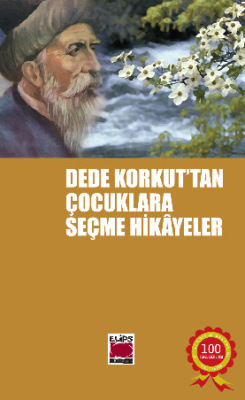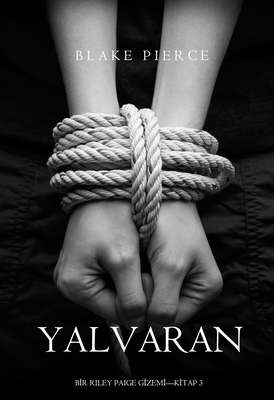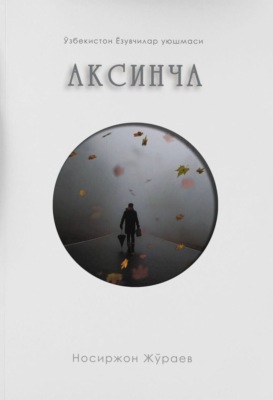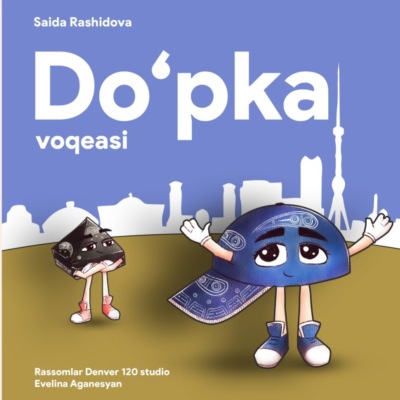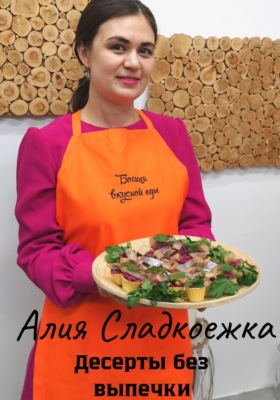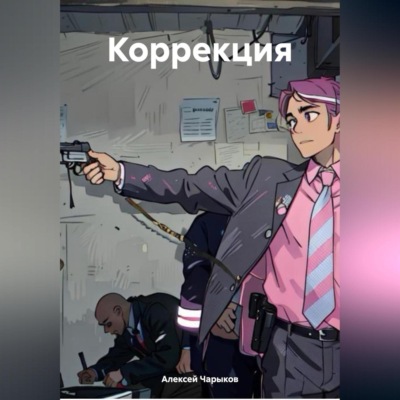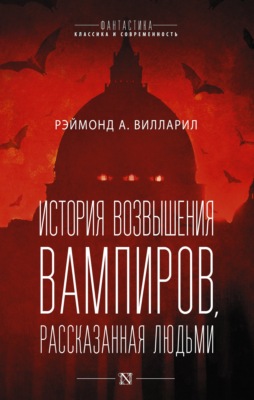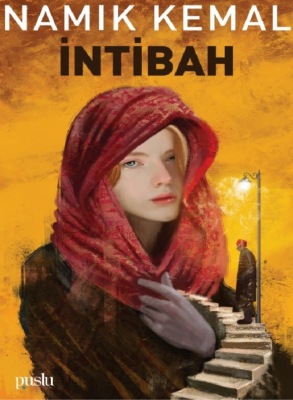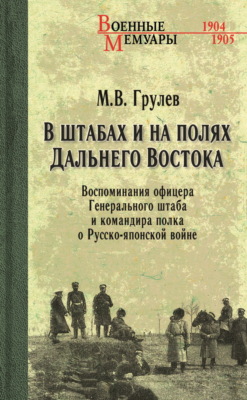Kitobni o'qish: «В штабах и на полях Дальнего Востока. Воспоминания офицера Генерального штаба и командира полка о Русско-японской войне», sahifa 3
Глава II
Неизбежность войны
Ближайшие причины войны. Объяснение этих причин с точки зрения нашего Министерства иностранных дел. Дипломатические сношения с японским правительством. Вопрос о Маньчжурии и Корее. Объяснение, присланное Стэду, издателю «Review of Reviews», из «авторитетного русского источника». Объяснение причин войны с точки зрения японского правительства
I
Неизбежность войны между Россией и Японией стала совершенно очевидной для всех немедленно после окончания японо-китайской войны, как только японцами выяснилось, что наиболее опасный и могущественный враг, который препятствует осуществлению их заветнейших мечтаний, – Россия. Я уже выше с достаточной подробностью подверг критическому анализу всю пагубность этой политики. Но так или иначе, сделав раз решительный шаг по известному направлению, надо было быть уже последовательным и готовиться к вероятным последствиям этого шага. В действительности же, во все последнее десятилетие, Россия – вернее, легкомысленные руководители ее внешней политики – нисколько не была озабочена возможностью близкого разрыва, почти ничего не делала для усиления своего положения на Дальнем Востоке, не переставая в то же время раздражать своего противника даже по таким возникавшим вопросам, которые для нас не имели никакого практического значения.
Вслед за окончанием победоносной войны с Китаем японское правительство возбудило вопрос о пересмотре трактатов с иностранными державами, в силу которых живущие в Японии иностранные подданные не подлежали юрисдикции японских законов, а передавались для суда и наказания своим консулам. Помимо всего, такое недоверие к законам страны было весьма обидно для народного самолюбия и не могло быть терпимо в государстве правовом, доказавшем и свою правоспособность, и свою силу.
Возбужденный вопрос больше всего затрагивал интересы Англии, так как наибольший процент проживавших в Японии иностранцев приходится на долю подданных английской короны, которые к тому же были связаны с Японией крупными торговыми предприятиями.
Для России же этот пересмотр трактатов имел чисто академический характер, потому что число русских подданных, живущих оседло в Японии, тогда (в 1895 году) было крайне ограниченное и никогда не могло быть сколько-нибудь значительным. Тем не менее Англия первая признала справедливость этого домогательства японского правительства; тогда как русские дипломаты почему-то долго противились законным требованиям Японии, вооружившись целым ворохом доктринерских умозрений. Конечно, они остались одинокими и потерпели фиаско; но в Японии этот факт все-таки сделал свое дело, вызвав новое раздражение против России.
Таким образом все время, начиная с протеста против Симоносекского договора, руководители нашей иностранной политики не переставали систематически раздражать соседнюю Японию, оставаясь в каком-то легкомысленном самообольщении, что японцы «не посмеют» нам объявить войну; или, вернее, не думали вовсе о последствиях, оставаясь в упоении эфемерными дипломатическими победами, которые еще не были учтены временем. Между тем японское правительство с лихорадочной поспешностью и совершенно открыто начало готовиться к войне с Россией, как только эта последняя выступила с протестом против Симоносекского договора. Уже в августе 1895 года мне пришлось, во время поездки из Йокогамы в С.-Франциско, узнать случайно о двух контрактах, заключенных японским правительством с двумя судостроительными американскими фирмами, представители которых ехали на одном со мною пароходе. Непосредственно после этих заказов в Америке было приступлено к выполнению второй судостроительной программы, которая окончена была в 1903 году. В то же время Россия совершенно не готовилась к войне на Дальнем Востоке, если не считать учреждения наместничества с дорогостоящими штатами. Лишь летом 1903 года, когда уже возникли переговоры об эвакуации наших войск из Маньчжурии и обозначилось обострение в отношениях с Японией, на Дальний Восток двинуты были из Европейской России две пехотные бригады в мирном составе. Мера эта не могла, конечно, подействовать устрашающим образом на японское правительство и лишь в слабой степени увеличивала численность наших вооруженных сил на тихоокеанском побережье; тем не менее переговоры пошли после того ускоренным темпом и привели вскоре к роковой развязке, которая задолго перед тем предвиделась и предсказывалась многими на Дальнем Востоке.
II
Посмотрим теперь, в чем собственно кроются причины Русско-японской войны.
По официальным разъяснениям министров иностранных дел, русского и японского, ход дипломатических переговоров, предшествовавших войне, и ближайшие причины войны представляются в следующем виде5.
Согласно толкованиям русского Министерства иностранных дел. Наиболее пригодные незамерзающие порты, которые могли бы служить конечными пунктами для Сибирской железной дороги на берегах Тихого океана, имеются только на Ляодунском полуострове. Есть подходящие порты и на восточном берегу Корейского полуострова; но едва ли можно было воспользоваться территорией Кореи, потому что это вызвало бы протест Японии, тем более что, согласно взаимному договору России и Японии, влияние первой в Корее было весьма ограниченное, и узаконены были особые торговые права Японии в этой стране; занятие же порта на Ляодунском полуострове Россией компенсировалось для Японии новым договором 1898 года, заключенным бароном Розеном со стороны России и г. Нисси со стороны Японии.
8 сентября 1896 года китайское правительство вошло в соглашение с Русско-Китайским банком, которому предоставлено было право основания особого общества для постройки в пределах Китая Восточно-Китайской железной дороги от одного из западных пограничных пунктов Хейлунцзянской провинции до восточной границы Гиринской провинции, а также право – сомкнуть этот рельсовый путь с железнодорожными ветвями, направляющимися от Забайкальской и Южно-Уссурийской железных дорог к границам России. Переговоры об этих концессиях, которые предоставлялись русскому торговому обществу со стороны китайского правительства, велись с достаточной гласностью, а договор был опубликован в июле 1897 года.
В ноябре 1898 года германское правительство заняло порт Кияо-Чао и добилось уступки этого порта у китайского правительства на арендных правах. Факт этот не вызвал никаких протестов со стороны японского правительства. Русское правительство также крайне нуждалось в подходящем незамерзающем порте, который мог бы служить стоянкой для флота, и получило согласие китайского правительства воспользоваться для этой цели Порт-Артуром. Между тем английское правительство усиленно старалось добиться в Пекине согласия на то, чтобы Порт-Артур и лежащий по соседству с ним Талиенван включить в число договорных портов, открытых для европейской торговли. Это обстоятельство заставило Россию склонить китайское правительство на формальную уступку упомянутых портов вместе с разрешением примкнуть к этим пунктам Восточно-Китайскую железную дорогу. Занятие Россией Порт-Артура и Талиенвана сопровождалось объявлением со стороны русского правительства, что ничем не будут нарушены права и привилегии, которыми в занятых портах пользуются иностранные подданные на основании действующих трактатов между Китаем и европейскими державами; точно так же ничем не будут нарушены верховные права Китая на занятой территории.
В особом письме от 18 марта 1898 года, на имя английского посланника в Петербурге, лорд Сольсбюри6 выражает вполне определенный взгляд, что великобританское правительство ничего не имеет в принципе против постройки Россией железных дорог в Маньчжурии и соединения их с общей сетью русских железных дорог, если только свобода торговли в Маньчжурии не будет стеснена особыми правилами или мерами местной администрации. Равно правительство Ее Величества признает вполне законным стремление России приобрести незамерзающий порт на тихоокеанском побережье и не имеет в виду создавать препятствия осуществлению этих честолюбивых планов России. Впрочем, лорд Сольсбюри противился занятию Порт-Артура Россией, которое не наносило ущерба английским торговым интересам, но имело весьма важное значение в военном и стратегическом отношениях. Русское правительство, однако, настаивало, что Талиенван для России не имеет никакого значения без Порт-Артура, так как «России необходимо иметь безопасную гавань для своего флота, для того, чтобы он не был в зависимости от таких элементов, – как во Владивостоке, где рейд покрывается льдом; или – от свободного пропуска через Корейский пролив, что зависит от доброй воли Японии».
В то же время Россия готова была оставить Талиенван открытым портом для иностранной торговли, но отказывалась изменить что-нибудь в положении Порт-Артура, оставляя его в положении «порта закрытого, преимущественно военного порта», – ввиду того, что было бы бесполезно иметь в таком близком соседстве две коммерческие гавани.
Япония со своей стороны не ответила протестом на все эти соображения и не ссылалась на свое вынужденное очищение Ляодунского полуострова, ограничившись только тем, что способствовала Англии добиться уступки порта Вей-хай-вэй, расположенного в пределах собственного Китая.
Посредством дружественного соглашения с Англией Россия добилась признания с ее стороны специальных своих прав в Северном Китае в отношении постройки там железных дорог. В силу этого соглашения подтверждались независимость и неприкосновенность Кореи; причем обе договаривающиеся стороны обязались взаимно признавать одинаковые политические права обеих держав в Корее. В договоре, заключенном 25 апреля 1898 года бароном Розеном со стороны России и г. Нисси со стороны Японии, Россия обязалась, «ввиду значительного развития торговых сношений и промышленных предприятий, принадлежащих японцам в Корее, а также ввиду большого числа японских подданных, проживающих в Корее, не препятствовать дальнейшему развитию торговых и промышленных предприятий Японии в Корее».
В этой конвенции, однако, Россия выговорила себе в Корее одинаковые с Японией политические права, и именно эти права Россия готова была в переговорах, предшествовавших войне, уступить в пользу Японии, желая этой уступкой достигнуть мирного исхода переговоров. Надо иметь в виду, что торговые интересы России в Корее довольно обширны; и русское правительство полагало, что если оно готово отказаться от своих политических прав в Корее, то и Япония могла бы в свою очередь отказаться от претензий на какие-нибудь политические права в Маньчжурии, где ее интересы незначительны. Впрочем, японское правительство не шло навстречу желаниям России разграничить интересы обеих держав в Корее посредством свободного и прочного соглашения. Хотя оно и подписало договор 25 апреля 1898 года, тем не менее заключило вслед за тем еще особое соглашение с корейским правительством, добившись признания за Японией особых преимущественных прав в отношении постройки железных дорог на корейской территории.
Тем временем общество Восточно-Китайской железной дороги, после уступки России Порт-Артура и Талиенвана, немедленно приступило к постройке рельсовых путей для соединения этих пунктов с Сибирской железной дорогой. Русское правительство, однако, заботилось о том, чтобы известно было всему миру, что какие бы права и уступки ни были предоставлены китайским правительством новому железнодорожному обществу, эти концессии ни в чем не должны нарушить прав других иностранных подданных, на основании действующих уже трактатов и соглашений, существующих между Китаем и другими державами. В декабре 1899 года гр. Муравьев7 писал русскому посланнику в Вашингтоне, что в отношении портов, лежащих вне уступленных России территорий, «решение всяких таможенных вопросов принадлежит исключительной компетенции Китая, и русское Императорское правительство не имеет намерения претендовать на какие-нибудь исключительные привилегии для своих подданных». Это заявление русского правительства, конечно, относилось одинаково и к другим державам.
В середине 1900 года в Северном Китае возникло боксерское движение8, и Маньчжурия стала ареной наиболее сильных беспорядков и демонстраций, направленных против иностранцев. Железнодорожные сооружения, воздвигнутые Восточно-Китайским обществом ценою весьма значительных затрат, были разрушены; многие русские подданные сделались жертвами этих беспорядков; для русского правительства стала очевидной необходимость принять меры к обеспечению своих интересов в Маньчжурии. Атака китайцев на Благовещенск еще более убедила Россию в том, что занятие Маньчжурии необходимо для сохранения мира; в то же время русские войска были отправлены в Ньючванг, уступая коллективному требованию иностранных консулов, для поддержания там порядка. Японский консул присоединился к коллективному требованию коллег ради единодушия, но в то же время высказал мнение, что русские войска, командированные для охраны города, недостаточны по своим силам и едва ли они в состоянии будут защищать город в случае решительной атаки со стороны армии боксеров. Ввиду бегства из города китайских чиновников русские взяли управление в свои руки, всячески поддерживая иностранных консулов. Впоследствии образовалось смешанное управление городом из русских и китайских чиновников.
Вопрос о Ньючванге – один из наиболее чреватых по различным мнениям и взглядам, существующим по этому предмету. Но должно иметь в виду, что первоначальная посылка русских войск для занятия этого пункта была сделана в ответ на решительное требование всех консулов с целью защиты города от атаки боксеров. То обстоятельство, что войска русские, может быть, продолжали занимать город, объясняется общим беспокойным состоянием Маньчжурии и необходимостью для России быть готовой ко всяким случайностям, ввиду продолжавшихся переговоров с Японией. Россия никогда не переставала признавать, что занятие Ньючванга было произведено с особой специальной целью; поэтому она сочла себя обязанной не пользоваться за время занятия города и таможенными доходами, которые были сданы в особый депозит в Русско-Китайский банк. С той минуты, как Россия увидела себя ответственной за поддержание порядка и безопасности в Ньючванге, она сочла себя также ответственной и за собранные таможенные доходы, которые принадлежат владельцам китайских ценностей. Лорд Кранборн заявил в палате общин 30 апреля, что все таможенные доходы, собранные русской администраций в Ньючванге, сданы в Русско-Китайский банк в депозит китайского правительства, за вычетом ежемесячного расхода по содержанию таможен. В прежнее время упомянутые таможни в Ньючванге состояли в ведении даотая китайского, который во время занятия города русскими войсками был замещен русским чиновником. Деньги, истраченные из таможенных доходов, согласно существовавшему порядку, на улучшение города, на различные санитарные меры, необходимые на случай появления чумы, холеры и т.п., подлежат вполне отчету.
Единственным нововведением в таможне Ньючванга, допущенным русской администрацией, было назначение заведующим ею русского чиновника, после ухода которого был назначен на его место другой русский же.
Вопрос о Ньючванге разрешился бы сам собою в ближайшем будущем, в силу того, что Россия уже раз торжественно заявила, что ни в чем не будут нарушены договорные права других держав в Китае. Это обещание со стороны России гарантировало, что Ньючванг был бы скоро восстановлен в своем прежнем положении.
В сентябре 1900 года русское правительство дало всем державам надлежащее объяснение, в силу каких именно обстоятельств оно было вынуждено ввести свои войска в Маньчжурию и занять Ньючванг, когда обнаружились враждебные действия боксеров и китайских войск. Эти меры русского правительства были, во всяком случае, временного характера, имевшие целью предупредить возможность дальнейшего нарушения мира со стороны мятежных элементов, и никоим образом не могут быть рассматриваемы как какой-то независимый, самостоятельный план агрессивного характера, что совершенно чуждо политике императорского правительства. Как только мирный порядок был бы окончательно восстановлен в Маньчжурии, – русское правительство не преминуло бы отозвать оттуда свои войска с территории соседней империи, если бы только действия Китая или других держав не заставили бы его принять какое-нибудь иное решение.
Между тем ход событий и необходимость установить в Маньчжурии какой-нибудь порядок вынудили русские власти в Порт-Артуре войти с местным цзянь-цзюнем в Мукдене во временное соглашение, которое должно было сохранить силу только до заключения в Пекине надлежащей конвенции между русским и китайским правительствами.
Это временное соглашение, чисто местного характера, было в значительной степени преувеличено в своем значении, вследствие чего русское правительство сочло нужным дать по этому случаю надлежащее объяснение. Английский посланник в Петербурге получил от графа Муравьева категорическое уверение, что между Россией и Китаем отнюдь не заключена и не имеется в виду заключить какую-нибудь новую конвенцию, в силу которой России предоставляются будто бы новые права в Южной Маньчжурии. Граф Муравьев присовокупил, что между упомянутыми правительствами не существует никаких соглашений, изменяющих в чем-нибудь международное положение Маньчжурии, которая обязательно была бы очищена от войск, как только миновали бы эти временные обстоятельства, вызвавшие необходимость введения войск и в Маньчжурию, и в Ньючванг.
Водворить прочный мир в Маньчжурии было нелегкой задачей, потому что русские войска должны были сосредоточить все свое внимание на защите железной дороги от нападений разных шаек; между тем, независимо от существования постоянных шаек хунхузов, к ним присоединились еще боксеры и расформированные китайские войска, участвовавшие в беспорядках. При всем том русское правительство обязалось немедленно вывести свои войска из Маньчжурии, как только миновала бы непосредственная опасность для железной дороги.
8 апреля 1902 года Россия заключила с Китаем особую конвенцию, в силу которой обязалась произвести окончательную эвакуацию войск из Маньчжурии в течение восемнадцати месяцев, но выполнение этой эвакуации зависело от известных условий.
Первое и наиболее важное условие обязательности эвакуации, как сказано было в конвенции, «зависело от действий Китая или какой-нибудь другой державы, которые не должны были угрожать интересам России в Маньчжурии». Но уже в самом начале исполнения этой конвенции русскому правительству стало ясно, что при немедленной эвакуации войск обстоятельства приняли бы в Маньчжурии такой оборот, что возникли бы впоследствии важные затруднения по умиротворению края; пришлось поэтому отложить на некоторое время отозвание войск.
Тем не менее русское правительство официально объявило 29 апреля 1903 года об отозвании своих войск из провинции Шингкинг; в то же время адмирал Алексеев предоставил всем иностранцам право путешествовать по Мукденской провинции без всяких паспортов. Одновременно с этим русский поверенный в делах вел в Пекине переговоры с китайским правительством о способах постепенной эвакуации русских войск из Маньчжурии. Все эти переговоры имели целью выяснить те меры, которые должны были быть приняты со стороны китайского правительства после ухода русских войск для поддержания порядка и безопасности в Маньчжурии. Во всяком случае Россия отнюдь не имела никаких намерений создавать какие-нибудь затруднения для иностранной торговли в пределах занятой ею китайской территории.
Так как все упомянутые сейчас меры предосторожности в отношении эвакуации русских войск из Маньчжурии вызвали много недоразумений, то русскому посланнику в Лондоне было поручено передать лорду Лансдоуну9 (написание того времени.– Ред.) следующее разъяснение, которое 18 мая было заявлено в верхней палате: «Переговоры, происходящие в настоящее время в Пекине между русским и китайским правительствами, касаются установления известных гарантий, могущих обеспечить весьма важные интересы России в Маньчжурии после ухода оттуда русских войск. Что же касается мер, которые могли бы ограничить права иностранных консулов, или препятствовать иностранной торговле, или затруднять пользование портами, то таковые отнюдь не могут стать намерением Императорского правительства; напротив, после постройки рельсовых путей в этой части Китая русское правительство стремится всячески расширить и развить иностранную торговлю в Маньчжурии».
Посредством особой ноты от 21 июля все державы, заинтересованные в свободе торговли в маньчжурских портах, получили официальное уверение от русского правительства, что оно не противится открытию этих портов, полагая лишь, что это не есть предмет существенной необходимости ввиду неспокойного состояния Маньчжурии и незначительного развития торговли при этих условиях.
Что касается сопротивления России в отношении открытия для иностранной торговли некоторых маньчжурских портов, то необходимо иметь в виду, что и китайское правительство делало различие между портами, которые оно открыло для торговли по собственному почину, и теми, которые оно вынуждено было открыть под давлением иностранных держав; в первых оно не давало никаких концессий иностранным подданным, предоставляя им лишь право приобретать земельные участки от китайцев; так что в вопросе об устройстве в портах иностранных поселений русское правительство не вводило от себя никаких новых правил, а следовало только порядку, заведенному китайцами.
Россия не противилась также назначению консулов в Маньчжурию, потому что это было в ее интересах. Дело в том, что Россия не располагала капиталами, необходимыми для оживления торговли в занятой ею китайской провинции; допущение иностранных капиталов было совершенно неизбежно и желательно, а иностранные капиталисты не пошли бы, конечно, на разные предприятия в стране, где они лишены поддержки своих консулов как своих национальных представителей, от которых только и могут получить иногда необходимые для торговых дел сведения. Допустить поэтому, что Россия противится назначению иностранных консулов в Маньчжурии – значит предположить, что русское правительство отказывается от существенной части своей политики на Дальнем Востоке. Правда, Россия не находила своевременным открывать для иностранной торговли новые порты в Маньчжурии вдобавок к уже открытым, но это обусловливалось тем обстоятельством, что и страна не была еще достаточно замирена и торговля ее не настолько развита, чтобы требовалось открытие новых портов. Но неверно, будто бы русское правительство протестовало в Пекине через своего посланника против заключения с Китаем новых торговых договоров. Главные преимущества России в Китае заключались в том, что, согласно договору, заключенному графом Кассини в Пекине, ей предоставлялось исключительное право постройки железных дорог в Маньчжурии на территории к северу от Великой стены; и это признало со своей стороны и великобританское правительство.
Центром тяжести переговоров с Японией был вопрос о Корее и заключался в том, что водные пути по Корейскому проливу должны были быть свободными для плавания. Россия не могла допустить возведения укреплений на берегах этого пролива, прерывающих сообщение между Владивостоком и Порт-Артуром, двумя главными опорными пунктами России на Дальнем Востоке.
III
Наконец, по русской версии, ближайшие причины, вызвавшие Русско-японскую войну, представляются еще в следующем виде, согласно сообщению, присланному г. Стэду, издателю «Review of Reviews», «из авторитетного русского источника».
В своем последнем фазисе переговоры с Японией начались в августе 1903 года и, после обмена мнениями, продолжались до начала 1904 года. Обе державы в отношении Кореи были уже связаны договором, гарантировавшим независимость и неприкосновенность этой страны, а также признание там существования преимущественных торговых прав Японии. В своем стремлении достигнуть мирного исхода начатых переговоров русское правительство готово было предоставить Японии также и в политическом отношении полную свободу действий; единственное, чего оно требовало от Японии, это принять обязательство не возводить в Корее укреплений, угрожающих свободе плавания по Корейскому проливу.
Что касается Маньчжурии, то домогательства Японии в этой стране могли иметь своей конечной целью эвакуацию русских войск из этой китайской провинции. Но Россия не могла по этому вопросу входить в переговоры с японским правительством, не признавая за Японией особых прав в Маньчжурии по сравнению с правами других иностранных держав; торговым же правам в Маньчжурии Японии и других держав не угрожало никакой опасности со стороны России. Желая избегнуть и в будущем возможных столкновений с Японией по вопросам, касающимся Маньчжурии, русское правительство требовало признания этой провинции, находящейся вне сферы политических интересов Японии.
Из сказанного видно, что в интересах мира русское правительство шло навстречу требованиям Японии, стараясь найти примирительный исход в возникшем споре; оно вправе было надеяться, что, получив полное удовлетворение в своих домогательствах в Корее и обеспечив свои торговые интересы в Маньчжурии, японское правительство присоединится к стремлениям России создать на Дальнем Востоке такой порядок вещей, который наиболее надежным образом способствовал бы сохранению мира.
Обвиняют русское правительство в том, что оно в своих переговорах создавало проволочки, но это неизбежно было ввиду важности предмета, а также ввиду необходимости совещаний, запросов и сношений с наместником Дальнего Востока и другими чиновниками. Совершенно не соответствует действительности предположение, что Россия намеренно затягивала переговоры с целью увеличить свои вооруженные силы на Дальнем Востоке.
Все эти приведенные выше тирады нашего Министерства иностранных дел носят явный характер канцелярской отписки, которой наши близорукие дипломаты пренаивно думали прикрыться в своих переговорах с Японией. Нет надобности пояснять перед нашим общественным мнением, насколько в центральном пункте переговоров с Японией – в вопросе об эвакуации наших войск из Маньчжурии – объяснения Министерства иностранных дел далеки от правдивости и искренности. Тут во всей силе сказались закоснелая рутина наших присяжных дипломатов, унаследованная еще от времен Горчакова10. Там, где требовались или отпор силою, или прямодушная уступка требованиям права и обстоятельств, хотели укрыться за отписками и пустыми фразами, не переставая уверять и себя, и весь мир, что «мы не хотели войны и не готовились к ней», но в то же время легкомысленным образом направляя переговоры и события к неминуемой кровавой развязке.
Посмотрим теперь, как японское правительство с своей стороны объясняет причины возникшей войны с Россией.
IV
По толкованию японского Министерства иностранных дел ход дипломатических разговоров, предшествовавших войне, и самые причины войны представляются в таком виде.
Причина неудачного исхода переговоров между Россией и Японией, приведшего к войне между этими державами, кроется в том, что японское правительство настаивало на включении в переговоры также и Маньчжурии наравне с Кореей, тогда как Россия игнорировала этот существенный пункт переговоров.
После японо-китайской войны 1895 года Россия, Франция и Германия воспротивились присоединению Ляодунского полуострова к Японии, ссылаясь на опасность для мира на Дальнем Востоке, если допустить такое нарушение неприкосновенности Китая. Японский император исполнил доброжелательный совет трех держав и очистил этот полуостров, не предъявив со своей стороны никаких условий. Могут, пожалуй, спросить, почему это японские дипломаты, соглашаясь на очищение Ляодунского полуострова, не поставили условием, чтобы упомянутые три державы также и со своей стороны не посягнули бы когда бы то ни было на овладение полуостровом. Но дело вот в чем: вмешательство упомянутых держав, выразившееся в посылке ими дипломатических нот через своих представителей в Токио, последовало 23 апреля, то есть неделю спустя после подписания договора в Симоносеках. В то же время Россия поспешила уже в конце марта отправить сильную эскадру из Европейской России в воды Дальнего Востока. Франция и Германия присоединились к этой демонстрации.
Прежде чем принять какое-нибудь определенное решение, Японии необходимо было выяснить два вопроса: первый – насколько Россия действительно намерена вступить в войну с Японией из-за Ляодунского полуострова и второй – в какой мере можно рассчитывать на помощь Англии. Для того и другого необходимо было выиграть время, поэтому японское правительство поручило своему посланнику в Петербурге повидать министра иностранных дел и представить ему необходимость пересмотра обострившегося вопроса. Но эти представления Японии успеха не имели. Россия ответила отказом и в то же время еще больше начала увеличивать свои вооруженные силы на Дальнем Востоке; то же заметно было и со стороны ее союзников. При таких условиях не было уже времени предъявлять новые требования относительно Ляодунского полуострова с целью обезопасить его в будущем от посягательств с чьей-нибудь стороны. В то же время выяснилось, что со стороны Англии можно рассчитывать на благожелательный нейтралитет – и только.
Вот почему упомянутая выше важная оговорка при очищении Ляодунского полуострова была в свое время упущена.
Весьма важное значение в ходе переговоров имел отказ адмирала Алексеева принять во внимание справедливые требования Японии относительно Маньчжурии. Япония тем более имела право голоса в этом вопросе, что она уже занимала часть этой провинции своими войсками после победы, одержанной над Китаем, по соглашению с которым она вправе была и присоединить эту занятую территорию к своим владениям. И если Япония в свое время вынуждена была эвакуировать свои войска из Маньчжурии, то это не устранило ее права участвовать в решении вопроса, касающегося участи этой провинции. Отказ адмирала Алексеева давал право японскому императору заявить о необходимости пересмотра всего вопроса об эвакуации Маньчжурии. Ибо если Китай отказывается от своих верховных прав над Порт-Артуром и территорией, к нему примыкающей, то эти права по справедливости должны отойти к Японии, которой он принадлежит по праву завоевания и лишь уступлен ею как настоящим правовым хозяином.