Отличная книга отличного автора! В книге обсуждается тема морали и религии, возможность их возникновения с эволюционно-биологической точки зрения. Фрас де Вааль достаточно сильно полемизирует и с лагерем сторонников главенства религии, и с атеистами. Было интересно стараться понять его срединную позицию. Ну и как всегда - написано понятно и доступно.
Совсем не понравилась. Автор не особенно структурированно и очень субъективно рассказывает свои мысли по теме с упоминаем своих чувств и разборок между учёными в их научной среде. Последнее так не только не интересно, но и неприятно читать. Показалось, что написано чересчур простым языком, даже по-свойски как-то. Даже четверть не осилила. Хотя возможно такое впечатление возникло на фоне чтения книги "Живой мозг " Иглмена, где всё чётко, по делу и очень увлекательно, но я рада, что у меня оказалось с чем можно сравнить. Книгу не рекомендую.
Если честно, то временами не понимала в какую степь ведет нас автор. Он начинал рассуждать о религии, морали, приводить картины Босха для примера. А мне хотелось просто почитать про обезьянок.
Автор книги - это нидерландский приматолог, который много времени посвятил изучению приматов, в частности человекообразных обезьян. Но, как пишут источники в интернете, он всегда изучал обезьян через систему социальных отношений. Тогда понятно почему в книге столько сравнений с человеком.
Также говорится, что у приматов есть альтруизм, эмпатия, эгоизм, забота о потомстве и прочее. Все рассказывается с примерами, как вели себя бонобо, шимпанзе или иные приматы в той или иной ситуации, к примеру, приводятся похороны старой обезьяны, лесбийские потирания гениталиями у самочек.
В книге много картинок с пояснениями под ними, временами они выбивали меня из колеи, так как текст под картинкой и основной текст чаще не совпадали.
Впечатление от книги осталось двоякое. С одной стороны, узнала интересное о приматах, а с другой - потратила часть своего времени на чтение того, что мне было не интересно. Книгу рекомендовать не буду.
Желая продолжить знакомство с автором, я не могла пройти мимо книги со словом «мораль» в названии, ведь эта тема меня весьма привлекает. Более того, оказалось, что ученый тут еще рассуждает о религии и атеизме, а так же об альтруизме – так что знакомиться с идеями Франса де Вааля было очень интересно. Чуть менее увлекательными были те моменты, где писатель распространяется о творчестве Босха, интерпретируя сюжеты его картин или рассказывая о судьбе художника. Ну и, конечно, в книге не обошлось без обезьян, но, помимо историй о шимпанзе, о чьем поведении я читала ранее в книге Франс де Валь - Политика у шимпанзе. Власть и секс у приматов , здесь приведены данные о бонобо – редком, вымирающем виде приматов, немногочисленное количество которых еще сохранилось в Конго и в зоопарках (например, в бельгийском парке Планкендаль)
Мне же бонобо интересны в первую очередь именно потому, что контраст между ними и шимпанзе безмерно обогащает наши представления об эволюции человека. Бонобо показывают, что длинный ряд наших предков отмечен не только мужским доминированием и ксенофобией, но и приверженностью к гармонии и вниманием к ближнему. Эволюция двигает и мужское, и женское, и не стоит измерять прогресс человечества исключительно количеством сражений, выигранных нашими самцами у других гоминин.
Наш вид мозаично схож и с теми, и с другими высшими приматами или, как я уже говорил, человек — «биполярная обезьяна». В хороший день мы можем быть милы и ласковы не хуже бонобо, а в дурной — не уступим шимпанзе по деспотичности и жестокости.
Если объективно, не увлекаясь техническими достижениями нескольких последних тысячелетий, взглянуть на собственный биологический вид, то мы увидим существо из плоти и крови с мозгом, который, хотя и превосходит мозг шимпанзе втрое, не содержит никаких новых частей. Даже размер хваленой префронтальной коры головного мозга оказывается достаточно типичным для приматов.
Книга представляет собой сборник эссе, которые весьма тесно связаны друг с другом, одни темы плавно перетекают в другие. Автор рассказывает о работе сознания у людей, об интуитивных реакциях, возникающих раньше осознанных рассуждений, о том, как эволюция формирует поведение. Также Франс де Вааль размышляет, дана ли была мораль людям «сверху» (Богом или принятыми правилами в обществе), или же она «глубинная суть», обусловленная изначальной жизнью в группах и подчинением вышестоящему.
Взгляд на мораль как на набор незыблемых принципов или законов, которые нам надлежит открыть, берет начало в религии. На самом деле совершенно не важно, кто именно формулирует эти законы: Бог, человеческий разум или наука. Все подобные подходы ориентированы одинаково — «сверху вниз»; их главная посылка состоит в том, что человек не знает, как нужно себя вести, и кто-то непременно должен ему об этом сказать.
Представьте, какую когнитивную нагрузку нам бы приходилось нести, если бы каждое принимаемое решение нужно было проверять при помощи «спущенной сверху» логики. Я твердо верю в утверждение Дэвида Юма о том, что разум — раб страстей. Начинали мы с нравственных ощущений и интуиции, и именно в этом мы ближе всего к другим приматам. Человек не откапывал мораль, извлекая ее из рациональных рефлексий; напротив, он получил мощный толчок снизу, из своего неизбывного социально-животного прошлого.
...известны случаи, когда самки шимпанзе буквально тащили упирающихся самцов навстречу друг другу, чтобы примирить их после ожесточенной схватки, и одновременно вырывали оружие из их лап. Более того, высокоранговые самцы регулярно выступают в роли беспристрастных арбитров, разрешая споры в сообществе. Для меня эти намеки на заботу об общественных интересах служат знаком того, что строительные кирпичики нравственности старше человечества, и что необязательно привлекать Бога, чтобы объяснить, как человек оказался там, где оказался.
Эта двойственность имеет принципиальное значение. Мораль была бы излишней, если бы мы все как один были добродетельными. Совершенно не о чем было бы беспокоиться, если бы люди только и делали, что сочувствовали друг другу и никогда не крали, не вонзали друг другу нож в спину, не домогались чужих жен! Очевидно, мы не всегда ведем себя должным образом, и именно этим объясняется наша нужда в моральных правилах. С другой стороны, можно придумать множество правил, предписывающих уважение и заботу о ближнем, но все не стоили бы ломаного гроша, если бы человек изначально не был предрасположен к этому. Эти правила были бы подобны семенам, брошенным на стекло: у них не было бы ни единого шанса прорасти. Именно способность быть как хорошими, так и дурными позволяет нам отличать добро от зла.
За дисциплинированным поведением часто стоит строгая социальная иерархия. ... Дело не только в том, что все обезьяны знают свое место; дело в том, что они знают, чем может кончиться нарушение правил. Социальная иерархия — гигантская система запретов и тормозов; именно она, вне всякого сомнения, проложила путь к человеческой морали, которая представляет собой такую же систему.
Мы происходим от длинной череды предков, которые существовали в условиях развитой иерархии и для которых соблюдение социальных запретов было второй натурой. Если сомневающимся нужны доказательства того, как много мы от них унаследовали, достаточно только вспомнить, как часто мы подкрепляем моральные правила авторитетом власти.
В других случаях мы поддаемся власти разума: утверждаем, что некие правила настолько логически убедительны, что было бы глупо им не следовать. Уважение человечества к моральному закону выдает склад ума, характерный для существ, которые любят быть в хороших отношениях с вышестоящими.
Ничто не может быть более показательным, чем типичная реакция человека на свой проступок. Мы опускаем лицо, избегаем встречаться с другими людьми глазами, опускаем плечи, преклоняем колени и вообще как будто все съеживаемся. Уголки рта опускаются, брови изгибаются «домиком», выдавая явное чувство неловкости. Человек стыдится, он закрывает лицо руками или хочет «провалиться сквозь землю». Это желание стать невидимым — напоминание о позе подчинения.
Тот факт, что в процессе эволюции у нас появился ясный сигнал, сообщающий о смущении, связанном с нарушением правил, — очень серьезная информация о нашем биологическом виде.
Способность краснеть — часть того самого эволюционного набора свойств, из которого выросла мораль.
Исследователь задает вопросы из серии «можем ли мы представить мир без Бога?», «могло ли быть так, что до возникновения религии наши предки не придерживались никаких социальных норм?» Наблюдения за животными позволили ученому понять, что «мораль» вовсе не изобретение человека, что эмпатия присуща млекопитающим и некоторым птицам, ее корни кроются в заботе о потомстве, а так же, что животные не лишены чувства справедливости.
Эмпатия свойственна в основном млекопитающим, поэтому еще более серьезная ошибка великих мыслителей заключалась в том, что сваливались в кучу все проявления альтруизма. Здесь и пчелы, умирающие за свой улей, и миллионы клеток миксомицета, у которого размножаться дозволено только немногим клеткам из тех, что собрались вместе в единый слизнеподобный организм. Жертва такого рода ставится в один ряд с ситуацией, когда человек прыгает в ледяную реку, спасая незнакомца, или когда шимпанзе делится пищей с хныкающим сиротой. Там же, на станции, вольных потомков лоренцевых гусей снабжают датчиками, чтобы иметь возможность постоянного мониторинга частоты их сердечных сокращений. У каждого взрослого гуся есть пара — а значит, есть и объект для проявления эмпатии. Если одна из птиц вступает в схватку с кем-то третьим, сердце ее партнера или партнерши начинает частить. Даже если сам партнер никак в схватке не участвует, его сердце выдает тревогу за исход сражения. Оказывается, птицы тоже чувствуют боль близкого существа.
По всем имеющимся данным, чем меньше отпрысков производит на свет животное, тем лучше оно о них заботится.
Несколько лет назад мы провели эксперимент: приматы с удовольствием выполняли задания ученых за кусочки огурца, пока не увидели, что другие получают виноград, который гораздо вкуснее. Обезьяны, получавшие в награду огурцы, пришли в возбуждение, побросали свои овощи и устроили забастовку. Очень приличная еда стала для них негодной только потому, что кто-то из собратьев получал кое-что получше.
Мы назвали это качество «неприятием неравенства»; позже данную тему исследовали на других животных, включая собак. Так, собака готова повторять одно и то же действие без всякого вознаграждения, но отказывается делать это, как только увидит, что другая собака получает за то же действие кусочек колбаски.
В итоге можно сказать, что социальный кодекс, по которому живут приматы и дети, поддерживается двумя факторами: внутренним и внешним. Первый — это эмпатия и желание со всеми поддерживать хорошие отношения, что заставляет избегать ненужных ссор. Второй — угроза физических последствий, таких как наказание со стороны вышестоящих. Со временем эти два фактора создают внутренний набор правил и ограничений, который я называю межличностной моралью. Такая мораль позволяет уживаться партнерам, обладающим несравнимыми способностями или силой; речь, к примеру, может идти о самцах и самках или о взрослых и детенышах. Мораль связывает их и помогает сформировать приемлемый для всех образ жизни.
Человек поднял репутацию и общественный интерес на уровень, недостижимый для приматов, и таким образом загнал каждого члена общества в сети морали.
Однако сверхъестественное существо в качестве наблюдателя, судя по всему, относительно недавнее явление, потому что в доисторические времена он был нам не нужен. В маленьких группах, подобных обезьяньим, все всех знают. В окружении родных, друзей и соплеменников у человека были все основания следовать правилам и уживаться друг с другом. Надо было заботиться о личной репутации.
Это подводит меня к разговору о следующем уровне морали, на котором человек совершенно одинок; доступ сюда закрыт даже высшим приматам. Нас очень волнует групповой уровень; мы разрабатываем представления о добре и зле не только для себя и своих ближайших родственников, но для всех вокруг.
Интересно было читать о примерах альтруизма в животном мире и объяснение автора, что альтруизм вырастает из эмпатии к тем, кто нуждается в помощи.
Млекопитающие обладают, как я это называю, «альтруистическим импульсом»: они отзываются на знаки страдания у других и испытывают побуждение помочь, улучшить положение страждущих. Распознать нужду ближнего и отреагировать на нее — совсем не то же самое, что следовать заранее запрограммированной тенденции приносить себя в жертву генетическому благу вида.
Среди приматов встречаются даже самые «затратные вложения» — усыновления не родных по крови детей. Причем делают это не только самки, от которых, в принципе, можно было бы ожидать подобных поступков. В недавно опубликованном докладе Кристофа Боша из Кот-д’Ивуара перечислены по крайней мере 10 случаев за 30 лет, когда самцы шимпанзе, живущие в дикой природе, усыновляли подростков, потерявших своих матерей.
Для шимпанзе помощь сородичам, не связанным с ними кровным родством, достаточно обычное дело. В качестве примера можно привести Уошо — первого в мире шимпанзе, обученного американскому языку жестов. Услышав однажды крик едва знакомой ему самки и увидев, как она упала в воду, Уошо преодолел две электрические изгороди, добрался до нее и вытащил на безопасное место.
Так же и американский философ Патриция Чёрчленд, хорошо знакомая с нейробиологией, говорит о том, что человеческая мораль вырастает из готовности к заботе о потомстве. Нервные цепочки, регулирующие телесные функции организма, устроены таким образом, чтобы учитывать и нужды малышей, детеныши воспринимаются примерно как дополнительная конечность. Наши дети — часть нас самих, поэтому мы защищаем и лелеем их не задумываясь, так же, как собственное тело. Тот же нейронный механизм обеспечивает основу и для остальных отношений, связанных с заботой.
Из книги мы узнаем, как менялись взгляды научного сообщества на тему альтруизма, как в противовес циничным взглядам Томаса Гексли на мораль и доброту, вытекающими из доктрины первородного греха, Петр Кропоткин продвигал идею взаимопомощи у животных, а идея Майкла Гизелина о том, что «любой альтруист –всего лишь ханжа», ранее столь популярная, в 2000-х годах под влиянием новых открывшихся фактов потеряла своих сторонников и стала выглядеть как «исповедь психопата»
Но популярность взгляда на эволюцию с точки зрения гена росла, и на подобные тонкие различия никто не обращал внимания. Это вело к циничному взгляду на природу человека и животного. Значение альтруистического импульса принижалось, а сам он даже осмеивался; понятие морали вообще было снято с повестки дня. Получалось, что человек лишь чуть лучше общественных насекомых. Человеческая доброта рассматривалась как шарада, а мораль — как тонкий налет лоска поверх кипящих в человеке отвратительных склонностей. Эта точка зрения, которую я окрестил «теорией лоска», берет начало еще с Томаса Генри Гексли.
Гексли заслуживает уважения за серьезный шаг в верном направлении, но по иронии сам оставался глубоко религиозным человеком, и это наложило отпечаток на все его взгляды. Он называл себя «научным кальвинистом», и значительная часть его рассуждений строилась согласно строгой и мрачной доктрине первородного греха. Исходя из того, что боль в мире присутствует всегда, говорил он, мы можем только надеятся выдержать эту боль со стиснутыми зубами; он придерживался философии «улыбайся и все сноси». Природа не способна породить никакого добра...
Гексли говорил, что садоводческий процесс по сути своей противоположен процессу, происходящему во Вселенной. Природа постоянно пытается подорвать усилия садовника, наводняя его участок отвратительными сорняками, слизнями и другими вредителями, готовыми в любой момент задушить те диковинные растения, которые тот стремится вырастить.
В этой метафоре сказано все: этика — уникальный человеческий ответ на неуправляемый и жестокий эволюционный процесс.
Это очень странная теория — если это вообще можно назвать теорией; согласно ей мораль представляет собой всего лишь запоздалую реакцию эволюции, фиговый листок, едва способный скрыть истинную грешную природу человека. Обратите внимание: эта мрачная идея целиком принадлежит Гексли. Я полностью согласен с Майром и тоже считаю, что она ни в малейшей степени не напоминает мысли Дарвина.
В конце концов у Дарвина появилась отчаянная потребность в том, чтобы кто-нибудь защитил его от этого публичного защитника. И он обрел его в лице первоклассного натуралиста Петра Кропоткина. Если Гексли вырос в городе и почти не сталкивался с животными, выживавшими после схваток с себе подобными, то Кропоткин объездил всю Сибирь и знал, как редко встречи животных проходят в том гладиаторском стиле, на чем так настаивал Гексли, считавший, что в природе идет «непрерывная борьба без правил».
Кропоткин, безусловно, замечал частые случаи сотрудничества между членами одного вида. Животные могут жаться друг к другу, спасаясь от холода, или все вместе противостоять хищникам — как это делают дикие лошади при встрече с волками; то и другое принципиально важно для выживания. В книге «Взаимопомощь как фактор эволюции», вышедшей в 1902 г., Кропоткин особенно подчеркивал эти темы; по существу, вся книга была направлена против «неверных» (таких как Гексли), исказивших учение Дарвина. Правда, Кропоткин немного перегибал палку в противоположном направлении; он тщательно собирал все примеры сотрудничества у животных и пытался обосновать ими свои политические взгляды.
Возможно только два варианта отношения к человеку: можно считать, что он изначально хорош, но способен и на зло, а можно наоборот — что он изначально плох, но способен и на добро. Я принадлежу к первому лагерю, однако литература в тот период подчеркивала лишь негативную сторону человеческой природы. Авторы считали нужным даже положительные черты описывать так, что они начинали казаться спорными. Животные и люди любят своих близких? Отлично, назовем это «непотизмом». Шимпанзе позволяют друзьям есть из своих рук? Скажем, что такие друзья «приворовывают» или «попрошайничают». Приведу характерное утверждение, которое раз за разом цитировалось в подобной литературе:
«Если отбросить сантименты, придется признать, что наше видение общества не смягчается даже намеком на подлинную доброжелательность. То, что на первый взгляд кажется сотрудничеством, при внимательном рассмотрении оказывается чем-то средним между приспособленчеством и эксплуатацией… При наличии реальной возможности действовать в своих интересах ничто, кроме выгоды, не остановит [человека] и не помешает ему проявить жестокость, искалечить и убить — брата, супруга, родителя или собственного ребенка. Отмой „альтруиста“— получишь „лицемера“».
Для американского биолога Майкла Гизелина любой альтруист — всего лишь ханжа...
Но затем произошла любопытная вещь: «теория лакировки» испарилась, причем умерла не в результате тяжелой продолжительной болезни, а скончалась скоропостижно, после обширного инфаркта. Я не совсем понимаю, как и почему это произошло. Может быть, все дело было в «проблеме 2000 г.», но к концу XX в. необходимость сражаться с «неверными» последователями Дарвина быстро сошла на нет.
...американский психолог Джонатан Хайдт, утверждал, что решения в вопросах нравственности человек принимает интуитивно. На сознательном уровне он о них почти не думает.
Вывод Хайдта заключался в том, что решения нравственного характера принимаются «нутром». Решают эмоции, а уже потом человеческий разум старается как можно лучше обосновать принятое решение. Примат логики был подвергнут сомнению, и тут же всплыло подзабытое «нравственное чувство» Юма. Антропологи обнаруживали существование чувства справедливости у людей по всему миру; экономисты находили людей более альтруистичными и склонными к сотрудничеству, чем позволяла теория Homo economicus (человека экономического); эксперименты с детьми и приматами обнаружили у них альтруизм при отсутствии всяких стимулов, утверждалось, что шестимесячные дети уже знают разницу между «хорошо» и «плохо»; нейробиологи обнаружили, что в человеческий мозг «встроена» способность чувствовать боль других людей.
Каждый новый шаг в этом направлении забивал еще один гвоздь в гроб «теория лакировки», и в конце концов общественное мнение развернулось на 180 градусов. В настоящее время считается общепризнанным, что все в человеке — и тело, и сознание — приспособлено к совместной жизни и к заботе друг о друге и что человек от природы склонен оценивать других по нравственным критериям. Вместо того чтобы рассматривать нравственность как тонкий налет лоска, теперь утверждают, что она исходит изнутри, что это часть нашей биологии, и такая точка зрения подтверждается многочисленными параллелями, которые можно отыскать у других животных. За несколько десятилетий мы прошли путь от призывов учить детей быть хорошими, потому что наш вид будто бы не обладает вообще никакими естественными склонностями в этом направлении, до всеобщего убеждения в том, что все мы рождаемся добрыми и что хорошие парни — лидеры эволюционного развития.
Только одна категория людей лишена этого естественного импульса, вот почему на лекциях я обычно саркастически замечаю, что «теория лакировки» прекрасно описывает сознание психопатов.
Риллинг показал также, что, когда нормальный человек помогает другим, в его мозгу активируются зоны, связанные с наградой. Делать добро приятно.
Они готовы видеть альтруизм лишь там, где действие наносит действующему ущерб, хотя бы сиюминутный. Никто не должен добровольно становиться альтруистом, тем более получать от этого удовольствие. Я называю эту идею «гипотезой травмирующего альтруизма» и считаю глубоко ошибочной. В конце концов, в определении альтруизма ничего не говорится о том, что он должен причинять страдание, говорится только о цене.
Много внимания писатель уделяет противостоянию науки и религии, при этом сам отказавшись от веры, он отрицательно относится к высмеиванию религии и воинственным нападкам атеистов на верующих (как и наоборот).
Для меня разобраться, в чем заключается насущность религии, гораздо важнее, чем критиковать нее. Центральный вопрос атеизма — а именно тезис о существовании или несуществовании Бога — представляется мне абсолютно неинтересным. Какой смысл вести горячие споры о существовании того, чего никто не может ни доказать, ни опровергнуть?
Так ли далеко в прошлое ушла псевдонаука? Или современные ученые свободны от нравственных ошибок? Вспомните исследование сифилиса в городке Таскиги (штат Алабама) всего лишь несколько десятилетий назад; или нынешнее участие врачей в пытках заключенных тюрьмы Гуантанамо. Я глубоко скептически отношусь к нравственной чистоте науки и считаю, что ее роль не должна выходить за рамки обязанностей служанки морали.
В общении равно с религиозными и с нерелигиозными людьми я теперь пользуюсь одним-единственным четким критерием — и определяется он не тем, во что конкретно верит человек, а лишь уровнем его догматизма. Я считаю, что догматизм угрожает нам гораздо сильнее, чем религия как таковая. Особенно же мне любопытно, как может человек перестать веровать, но сохранить при этом связанные с ней зачастую шоры.
Вера развивается под влиянием конкретных личностей, историй, обрядов и ценностей. Она удовлетворяет эмоциональные нужды человека, такие как потребность в безопасности и моральном авторитете, а также желание принадлежать к какому-нибудь сообществу. Теология здесь вторична, а доказательства значат еще меньше. Я согласен с тем, что вещи, в которые адепты религии просят человека поверить, часто абсурдны, но атеистам ни за что не удастся уговорить людей отказаться от веры при помощи насмешек над достоверностью священных книг или сравнения их Бога с Летающим макаронным монстром.
Несклонный идеализировать науку и ученых, писатель упоминает и об истоке науки – алхимии, которая была близка оккультизму и манила к себе немало сумасшедших и шарлатанов, об евгенике, об ученых времен Второй Мировой войны, которые проводили чудовищные эксперименты, а так же оправдывали геноцид. А так же о том, что ученые, как и все люди, рады привычному и избегают неизвестного, и о том, что беспристрастного разума не существует.
Если принять, что вера возникает под влиянием ценностей и желаний, то можно сразу же увидеть здесь не только большую разницу с наукой, но и нечто общее; дело в том, что наука опирается на факты в значительно меньшей степени, чем считается. Не поймите меня превратно, наука добивается прекрасных результатов. Там, где речь идет о понимании физической реальности, она не имеет себе равных, но зачастую она так же, как религия, основывается на том, во что нам хочется верить. Ученые тоже люди, а людям свойственны качества, которые психологи называют «предвзятостью подтверждения» (confirmation biases; мы обожаем доказательства, подтверждающие наши собственные взгляды) и «предвзятостью несоответствия» (disconfirmation biases; мы отбрасываем доказательства, которые могут поколебать наше мнение).
Ученые, как и прочие представители рода человеческого, отвечают на новые данные проверенной стратегией «дерись или беги»: они рады привычному и избегают неизвестного.
Всю свою жизнь я провел в академической среде и могу сказать, что для ученого услышать о своей ошибке столь же приятно, как найти таракана в кофе. Типичный ученый — это тот, кто в начале карьеры делает интересное открытие, а всю оставшуюся жизнь заботится о том, чтобы все остальные уважали его вклад и никто бы в нем не усомнился. Трудно вообразить что-то более скучное, чем компания пожилого ученого, которому не удалось этого добиться. Среди ученых процветает мелкая ревность, они долго цепляются за свои взгляды уже после того, как те устаревают, и расстраиваются всякий раз, когда появляется новая информация, которой они не ждали.
Оригинальные идеи вызывают насмешки или вообще отвергаются как невежественные. Авторитетность ученого при оценке фактов перевешивает последние, по крайней мере до тех пор, пока жив носитель авторитета. Можно привести множество исторических примеров, таких как неприятие волновой теории света, теории брожения Пастера, теории дрейфа материков; нелишне вспомнить, как было воспринято объявление Рентгена об открытии излучения, которое поначалу вообще объявили мистификацией. Бывает в науке и обратное, когда ученые, игнорируя факты, предпочитают держаться за неподтвержденные, но общепринятые представления и методы (такие как тест Роршаха с кляксами или насаждение идеи об эгоизме всего живого). Исследователи превозносят «достоверность» и «красоту» теорий и оценивают их в соответствии с тем, как, по их мнению, устроен или должен быть устроен окружающий мир.
Если вера заставляет человека принять полный набор мифов и ценностей, не задавая лишних вопросов, то и ученые ведут себя в этом отношении не намного лучше. Мы тоже берем на вооружение определенный взгляд на мир, не оценивая и не взвешивая критически каждое предположение из тех, что положены в его основу, и часто пропускаем мимо ушей все, что не укладывается в готовую схему. Иногда мы, подобно психологам из комиссии моей студентки, намеренно отказываемся от возможности узнать больше. Но даже если ученые едва ли более рациональны, чем верующие, а само представление о беспристрастном разуме основано на гигантской ошибке (мы не в состоянии даже думать без эмоций), все же между наукой и религией существует одно очень серьезное различие.
Наука — это коллективное предприятие, правила которого позволяют целому продвигаться вперед в любых обстоятельствах, даже если его отдельные части тормозят движение.
В противоположность описанному религия статична. Она меняется, когда меняется общество, но это редко происходит под давлением фактов. Отсюда потенциальный конфликт с наукой — такой, к примеру, как нескончаемая драка по поводу эволюции.
В социальных и гуманитарных науках идея исключительности человеческого рода сохраняется и сегодня. Эти науки так сопротивляются всяким сравнениям человека с другими животными, что их беспокоит даже словосочетание «с другими». Напротив, естественные науки, менее связанные с религиозностью, неудержимо движутся к признанию все большего и большего единства человека и животного. Карл Линней уверенно поместил Homo sapiens в отряд приматов; молекулярная биология выяснила, что ДНК человека и человекообразной обезьяны почти полностью совпадают; нейробиологии пока не удалось найти ни одного участка человеческого мозга, для которого не нашлось бы соответствия в мозгу обезьян. Именно эта преемственность вызывает споры. Если бы мы, биологи, могли обсуждать эволюцию, вообще не упоминая человека, никто бы не стал ломать копья по поводу этой теории. Реакция была бы примерно такая же, как относительно наших дискуссий, считать ли утконоса млекопитающим или как работает хлорофил. Кому какая разница, кроме ученых?
Враг науки — не религия. Есть бесконечное количество форм и разновидностей религии, и есть масса верующих здравомыслящих людей, признающих лишь избранные догматы своей религии и не имеющих ничего против науки. Подлинный враг — это подмена мысли, рефлексии и любознательности догмой.
Источник проблем, с точки зрения голландского исследователя, находится в догматизме, в нетерпимости, которую проявляют друг к другу представители разных «лагерей», хотя, на взгляд Вааля, сторонникам различных идей нечего делить – наука отвечает за физические процессы, за открытия как прошлые, так и будущие в сфере естествознания, религия же ответствена за духовные стороны человеческой жизни, может дать ответы о смысле и цели жизни, о том, что такое «хорошо» и «плохо».
Подводя итог, книга легко читается, увлекательно следить за рассуждениями автора и его точка зрения весьма интересна. Так что рекомендую любителям нон-фикшн, тем более есть аудиоверсия, доступная в Литрес библиотеке.
Замечательная книжка! Автор, в пух и прах, громит тех, кто считает, что основа человеческой природы - зло, жестокость и беспринципная борьба за выживание. И тех, кто приписывает возникновение морали некоему высшему существу, без которого человечество должно погрязнуть в грехе и разврате. Не зло и не должно, утверждает Де Вааль. На массе примеров рассматривается взаимопонимание среди обезьян, их бескорыстная помощь друг другу и даже своеобразный альтруизм.
Очень занимательно!
Насколько исключительны мы в вопросах морали? Сделала ли нас нравственными религия или, когда она появилась, мораль у нас уже была? Нужно ли науке бороться с религией и возможен ли между ними компромисс? На эти и другие вопросы пытается ответить в своей книге Франс де Вааль.
Молодые шимпанзе помогают пожилой соплеменнице взобраться на помост вслед за остальными. Члены стаи приходят проведать заболевшего собрата, а кто-то даже устраивает ему «гнездышко», подкладывая за спину древесную стружку, — чтобы мягче сиделось. Здоровая слониха всюду водит за собой слепую подругу, и если им случается разойтись, то обе во всю мочь трубят в хоботы, пока не находят друг друга. Собаки начинают бастовать и отказываются выполнять для человека задания, если видят, что за ту же самую работу другому достаётся награда получше. Это лишь несколько примеров из тех, что описаны в книге.
У животных есть чувство справедливости и правила поведения в обществе. Они заботятся о малышах и друг о друге. Они ссорятся и мирятся, воюют и сотрудничают. У них многое совсем как у людей. Или, точнее, это у нас почти всё как у них))
На материале многолетних наблюдений Франс де Вааль доказывает, что эмпатия и альтруизм свойственны не только человеку. Они есть и у братьев наших меньших. Мораль вовсе не была дана свыше. Она появилась естественным путём в процессе эволюции. Животным, живущим группами, — волкам, слонам, приматам — моральное поведение помогало сохранять мир в сообществе, растить детёнышей, делить добычу – выживать. Религия возникла позже и пришла на фундамент, уже заложенный природой.
"Не Бог ввёл мораль, а скорее наоборот. Бог появился для того, чтобы помогать нам жить так, как мы, по нашему же мнению, должны жить".
Де Вааль атеист, но не противник религии. Для него важнее понять, зачем она нужна и почему до сих пор сохранилась, чем критиковать её. Спорить о том, есть Бог или нет, бессмысленно: истину установить невозможно. В любом случае, по его мнению, переходя от религиозного общества к светскому, нам стоит уважать наше религиозное прошлое, ведь именно религия была тем кораблём, «который перенёс нас через океан и позволил организовать громадные сообщества с хорошо функционирующей моралью». Каким было бы общество, не будь у него в прошлом религии, мы не знаем.
Для меня главная идея этой книги в том, что все мы глубоко родственны друг другу. То есть буквально: «Мы с тобой одной крови, ты и я». Мы в родстве со всем миром — с человеком на другой стороне земного шара, с домашним котом, с диким зверем... Если идти дальше по времени, вглубь эволюции, то и с деревом, травинкой, жуком, бактерией. А если совсем уж к началу времён — с неживым веществом, с материей в принципе, со Вселенной, потому что, как писал Карл Саган, «мы сделаны из звёздного вещества... Азот в нашей ДНК, кальций в наших зубах, железо в нашей крови, углерод в нашем яблочном пироге были созданы в сердцах умирающих звезд. Мы – звездная пыль».
Наша общность с животным миром — это не плохо, не странно и уж тем более не оскорбительно. Это самая естественная и прекрасная в мире вещь.
Мы очень похожи на обезьян. Даже моральные принципы, которыми руководствуются шимпанзе или бонобо, СИЛЬНО похожи на наши. У нас похожие действия и эмоции. Не забывайте о корнях! Меня впечатлило, насколько сильно религия и другие надстройки человеческой культуры завязаны на общеприматских принципах. Друзья, наш социум не сильно отличается: не потому, что мы дикари, а потому, что и обезьяны довольно умны. Не отделяйте "людей" от "животных"! Так мы теряем очень много удивительных озарений.
Мне понравился взгляд Франса де Вааля на животных, природу и нашу жизнь с ними. Обязательно продолжу читать этого автора!
Хочу поделиться одной из лучших нон-фикшн и научно-популярных книг — об обезьянах и не только. Я читал её ранее, но отзыва толком не написал, а ведь книга достойна чтения и внимания! Но вначале из недавних новостей:
⠀
••• Приматологи засняли на видео, как шимпанзе, найдя в лесу Уганды выброшенную пластиковую бутылку, начал «проталкивать» в горлышко свой пенис. Во время акта самец испытывал наслаждение, что было видно по «игривому лицу».
⠀Это первый задокументированный случай использования шимпанзе в качестве секс-игрушки вещи, созданной человеком — обычно животные брали только природные объекты, например, фрукты или гладкие камни. Учёные считают, что это свидетельствует о всё большем загрязнении среды обитания мусором •••
⠀
 ⠀
Книгу «Истоки морали: В поисках человеческого у приматов» написал известный биолог и приматолог, изучающий также генетически обусловленное поведение животных и людей — этологию. Американский учёный родом из Ден Босе, города с юга Нидерландов, родины художника Иеронима Босха. В связи с этим примечательно, что по всей книге в виде иллюстраций затрагиваемых тем встречаются фрагменты картин великого живописца.
⠀
⠀
Книгу «Истоки морали: В поисках человеческого у приматов» написал известный биолог и приматолог, изучающий также генетически обусловленное поведение животных и людей — этологию. Американский учёный родом из Ден Босе, города с юга Нидерландов, родины художника Иеронима Босха. В связи с этим примечательно, что по всей книге в виде иллюстраций затрагиваемых тем встречаются фрагменты картин великого живописца.
⠀
«Невозможно посмотреть в глаза человекообразной обезьяне и не увидеть в них себя»
⠀ Главный диалог, который ведётся на страницах издания, — это проблематика природного и культурного, животного и морально-этического. В оригинале книга называется «Бонобо и атеист», так как одна из главных тем — религия на фоне изучения поведения шимпанзе и бонобо. И это очень занимательная тема, так как автор даёт пространство для размышлений и диалога, не столь категоричен как тот же мной любимый биолог Ричард Докинз или журналист Кристофер Хитченс. Исследуя поведение человекообразных обезьян, начинаешь всё больше проникаться симпантией к ним и убеждением, что доброта, мораль, этика — во многом врождённые склонности, переданные нам природой и развитые потом человеком. ⠀
«Я не считаю, что наблюдения за шимпанзе или бонобо могут подсказать нам, что хорошо и что плохо, и не думаю также, что это может сделать наука, но я уверен, что природа помогает нам разобраться, как и почему мы стали заботиться друг о друге, и искать моральные принципы. Мы делаем это потому, что выживание зависит и от хороших отношений с окружающими, и от сплочëнности общества»
⠀ Основные темы: • Существует ли мораль без религии • Нужна ли религия вообще • Наивысшее ли млекопитающие человек • Способны ли животные к эмпатии
У книги ещё занимательное посвящение: •••“Катерине, моему самому любимому примату“••• ⠀ Автор постарался увлечь читателя поведением своих подопечных, которых он исследует на протяжении многих лет, проиллюстрировал книгу фотографиями приматов с подробными подписями под ними, привёл в книге выводы исследований из других смежных наук (так что тут не только про обезьян, но много и про других животных и их поведение)... Кстати, де Вааль вошёл в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Роберт Сапольски, другой известный учёный, так высказался про это исследование: ⠀
«Де Вааль показывает, что корни человеческой морали уходят глубоко в наше обезьянье прошлое и возникли намного раньше, чем была изобретена культура и явление под названием “религия“. Это чрезвычайно важная книга одного из наших выдающихся мыслителей»
⠀ Книга интересна будет для всех, кого интересует эта тема взаимосвязи наших предков по эволюции с человеком. Она легко читается, даёт повод задуматься о нашей природе и поведении, очень советую. Ниже приведу мои любимые цитаты (вся книга в значках, подчëркиваниях). ...Надеюсь, я вас заинтересовал, издание: издательство Альпина нон-фикшн ⠀
«Подлинный враг — это подмена мысли, рефлексии и любознательности догмой»
⠀
«Эмпатическая реакция тем сильнее, чем ближе мы знакомы с объектом и чем больше у нас общего»
⠀
«Человеческая цель формируется в сочетании эмоциональных и когнитивных фильтров. Такое же сочетание работает и у других животных»
⠀
«Человек — иерархический примат, как бы мы ни старались закамуфлировать данный факт, и проявляется это в самом раннем детстве»
⠀
«Мораль помогает шире распространять преимущества групповой жизни и сдерживать эксплуатацию со стороны могущественной элиты»
⠀ Приятного и полезного вам чтения!
Это был неожиданный приятный сюрприз. Среди многих книг научно-популярной литературы эта оказалась благоухающим цветком в пыльной библиотеке с тщательно охраняющими сотни древних томов консервативными служащими.
И пока читаешь её, невольно проникаешься уважением к автору как к человеку. Хотя как раз употребление слова «человек» в данном контексте прозвучит смешно, ведь даже посвящение у книги выглядит так: «Катерине, моему любимому примату». Речь, конечно же, здесь идёт о человеке — о его жене.
Если после этих строк у вас сложилось впечатление, что Вааль – двинутый на обезьянах чудак, спешу вас разубедить: более адекватных, трезвых и даже мудрых рассуждений в нонфикшн мне ещё встречать не доводилось. Во-первых, в противовес всем биологам, когда-либо бравшимся за перо, он не отрицает бога. Чего можно добиться этим отрицанием – ненависти и очередной порции необъективных врагов твоих теорий, говорит Вааль. И после этого объясняет, что такое религия, какую роль она играет в обществе и для чего нужна, и почему в любом обществе она неизбежно возникнет. Всё это кажется настолько очевидным, что просто диву даёшься, как это до сих пор тебе самой не приходило в голову тех же рассуждений. Не опиум для народа, а примитивнейшее (в хорошем смысле, читайте: легкодоступное) средство, помогающее объединяться в социальные группы, чувствовать себя среди единомышленников, не быть в одиночестве. Ведь тех же христиан или мусульман неизмеримо больше, чем представителей какой-либо профессии, и мусульманину гораздо проще среди людей вокруг найти единомышленника, разделяющего его вероисповедание, нежели учёному такого же учёного собрата, способного так же воодушевляться исследованием. С этой точки зрения, по Ваалю, атеизм – тоже религия.
Беда начинается тогда, когда представители одной религии объявляют джихад всем другим (а ведь каждый мнит свою религию единственно правой). Даже стремясь «насадить добро», миссионеры привели к разрушению и упадку цивилизации индейских племён. С другой стороны, межвидовая и внутривидовая борьба – естественный механизм выживания. Но как все социальные животные, человек преимущественно стремится к мирному существованию и к урегулированию безобразий. Однако убеждённость в своём превосходстве над иными видами очень трудно искоренить.
В социальных и гуманитарных науках идея исключительности человеческого рода сохраняется и сегодня. Эти науки так сопротивляются всяким сравнениям человека с другими животными, что их беспокоит даже словосочетание «с другими».
И действительно, от многих выходцев с социологических факультетов мне не раз приходилось слышать постулат о том, что у людей нет инстинктов, а есть они только у животных. Мнение о собственной исключительности отчасти тоже приводит к антропоцентрическим ошибкам: во-первых, люди спешат отказать в сообразительности животным на том основании, что они не могут совершить какое-то действие (например, узнать себя в зеркале), исходя из неправильно поставленных экспериментов (показывать слону зеркало с ладошку, в которое он увидит не более чем часть своей ноги, в то время как слон, которому показали всё его тело, быстро себя идентифицировал в отражении), во-вторых, на основании того, что животные не торопятся совершать те действия, которые попросту не свойственны устройству их организма (тот же слон не орудует палками, потому что хобот – орган обоняния, которое у них развито в разы мощнее, нежели у человека, и если этот орган выйдет из строя, то слон станет гораздо хуже ориентироваться в пространстве). Всё это, увы, свидетельствует о глупости, либо неумении выйти за рамки привычного для человеческого организма образа жизни самого человека.
К сожалению, многие политики, строящие разнообразные утопические модели общества, при всём при этом совершенно исключают биологическую основу. Но без понимания, откуда что берётся, невозможно построить идеальное общество. Именно по этой причине я советовала бы Вааля всем, включая тех, кто биологией вообще не интересуется, потому что после этой книги станут понятны механизмы человеческих социальных поступков в том числе, таких, которые большинство с биологией никак не связывает.
По прочтении почтительно склоняю голову. Вааль — Примат с большой буквы!



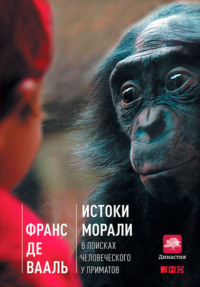
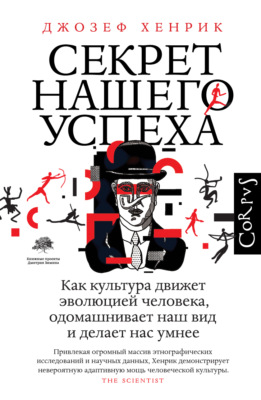
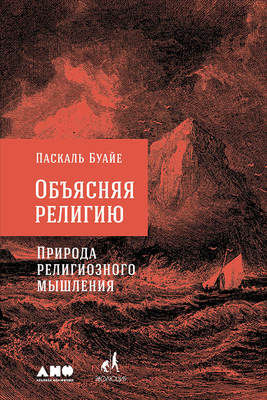
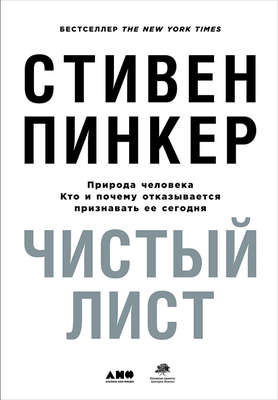
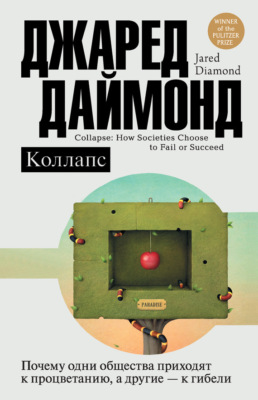
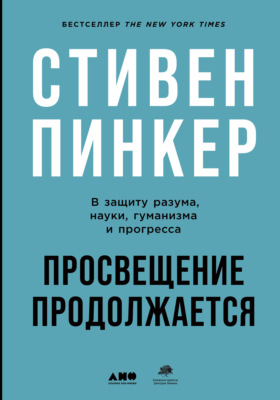
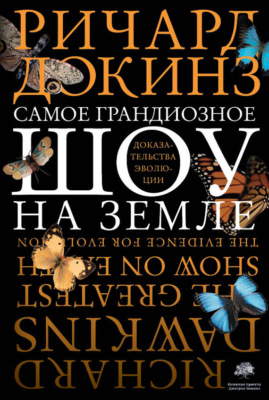
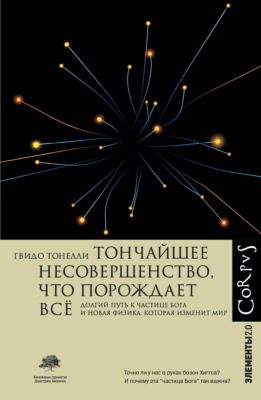
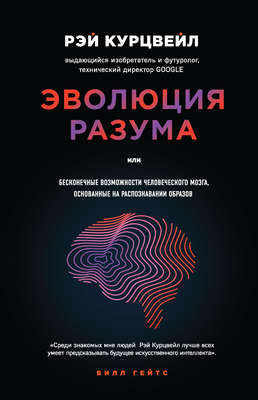
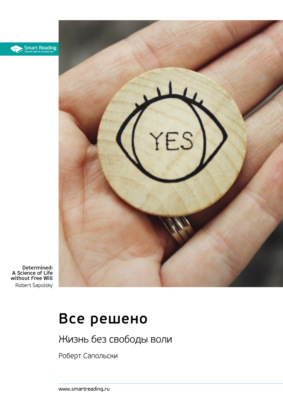
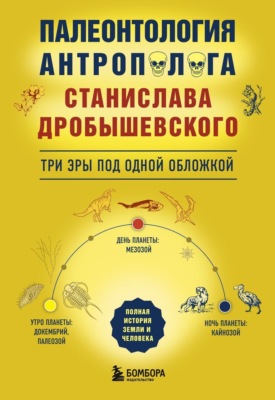
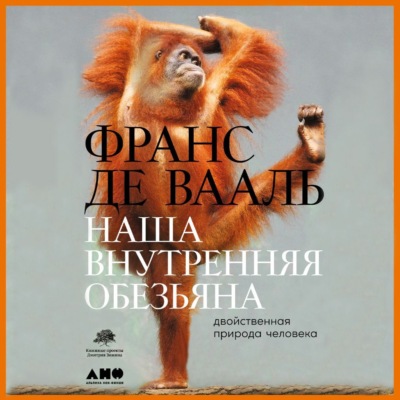
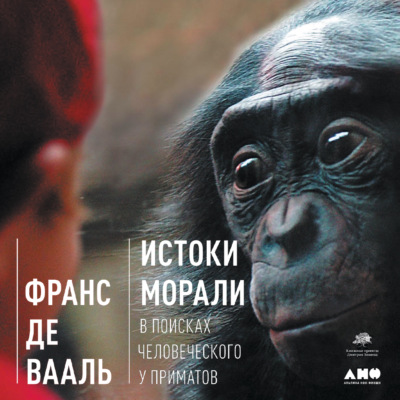
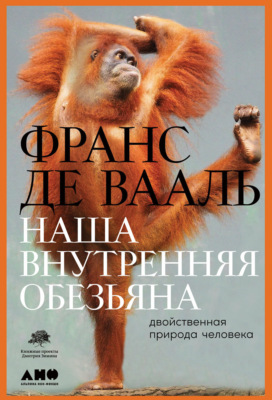
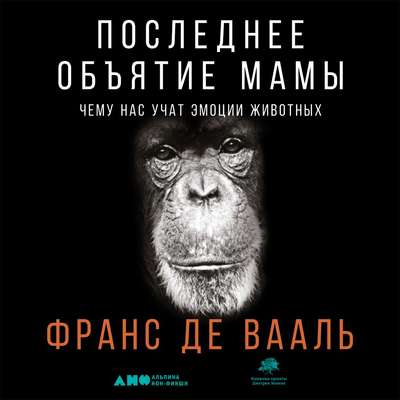
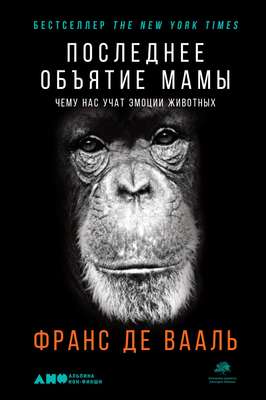
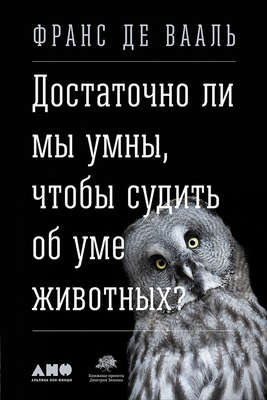
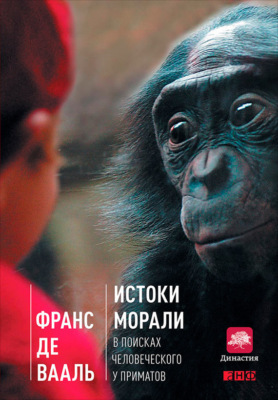
«Истоки морали. В поисках человеческого у приматов» kitobiga sharhlar, 2 sahifasi, 42 sharhlar