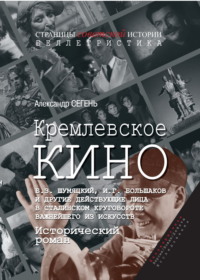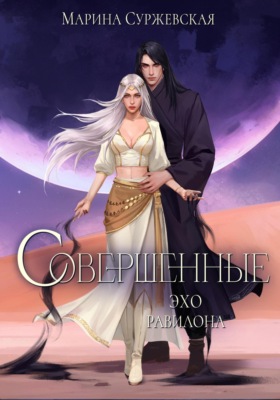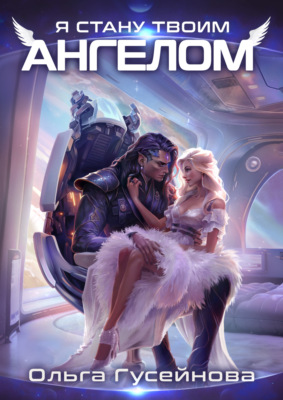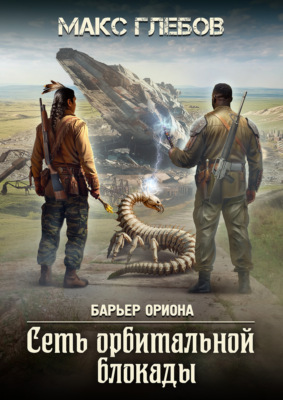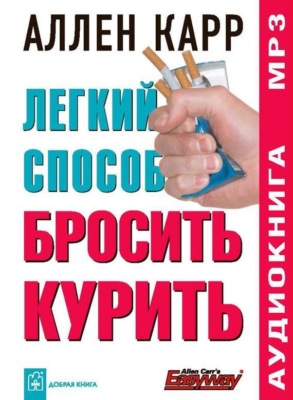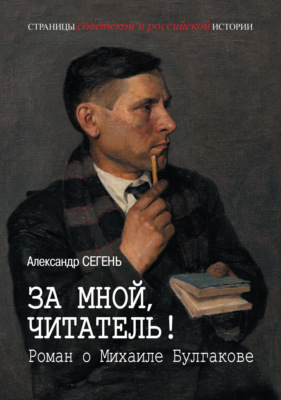Kitobni o'qish: «Кремлевское кино. Б. З. Шумяцкий, И. Г. Большаков и другие действующие лица в сталинском круговороте важнейшего из искусств», sahifa 2
– Так вы, шельмецы, его на приколе снимали? – по-мальчишески засмеялся Калинин.
– На приколе, Михаил Иванович, – кивнул Эйзенштейн. – В кино главное – создать иллюзию, сфокусировать, снять, а потом смонтировать так, чтобы зритель не догадался. А тут еще чайки постоянно кружили, и еще больше создавали иллюзию открытого моря. С помощью реек, балок и фанеры мы загримировали «Двенадцать апостолов» под «Потемкина», чтобы специалисты не могли узнать.
– Опять монтаж аттракционов, – уже вполне добродушно произнес Сталин, раскуривая трубку между борщом и котлетами на гречневой постели, оказавшимися в нижних судках.
– Вот вам, товарищ Сталин, на съемках у нас трудно пришлось бы, – со смехом продолжил Эйзенштейн. – Курить категорически запрещено, ведь кругом одни мины. Ни курить, ни бегать, ни стучать громко, даже без особой нужды находиться на палубе запрещено. Причем в качестве соглядатая нам приставили от флота человека по фамилии Глазастиков. А угадайте, за сколько мы сняли в итоге почти весь фильм? За две недели!
– Да ну! – воскликнул Молотов.
– Сроки, товарищи, сроки! Кстати, есть и кадры, где броненосец «Потемкин» снят издалека, плывущим по морю. Но плыл он на самом деле в Мавританском зале Сандуновских бань. Точная модель. И, кажется, получилось, не заметно, что модель.
– А правда ли, что зловредного попа играете вы сами? – спросил Бухарин.
– Уже распустили слухи! – засмеялся Эйзенштейн. – Правда, но только в том эпизоде, где он падает с лестницы. Попа играл старый садовник из-под Севастополя, но заставить его падать с лестницы корабля мы не имели права, меня загримировали под него, и я с удовольствием проделал сей трюк падения. А вообще, как сказано у Пушкина, «случай – бог изобретатель», и в кино очень часто происходят случайные находки, которые становятся лучшими аттракционами фильма. Так, например, встающие львы. Злой сторож Алупкинского дворца не давал нам их снимать, подойдем к одному, он на него верхом садится и орет: «Не дам! Не позволено!» Благо, львов шесть, а он один, пока он на одном восседает, мы с другой камерой к свободному льву перебегаем. Когда снимаешь и видишь, что у тебя все получается, природа и обстановка нередко преподносят такие подарки, как эти львы. Или туман. Случайности, которые подбрасывает жизнь, всегда умнее режиссера. Надо только уметь видеть и вслушиваться в эти дары, живущие собственной пластической жизнью. Для этого нужно пойти на унижение своей индивидуальности, скромно отступить и дать дорогу тому, что само собой просится в твой фильм. Нужно быть гибким в выборе частных средств воплощения замысла. Уметь отказаться от задуманного заранее ради чего-то, появляющегося внезапно. Случай дает более острое и сильное решение, которое закономерно врастает в плоть фильма. Так произошло и с лестницей, она ни в каких сценариях не фигурировала, но вдруг выросла передо мной и ворвалась в органику и логику фильма своенравно, неотвратимо. Да, не было, но расстрел на Воронцовской лестнице в моем фильме вобрал в себя все другие расстрелы. И девятое января, и бакинскую резню, и пожар в Томском театре, и Ленскую бойню, и многое другое. Вот увидите, этот эпизод войдет в классику мирового кинематографа. Хотя на самом деле никакого расстрела на одесской лестнице в истории не было. Но правда искусства восторжествует над правдой жизни.
– Браво! – похлопал в ладоши Бухарин.
– Красиво, – кивнул Сталин. – Да, Николай Иванович, я все собирался спросить, что там все-таки окончательно по Есенину?
– Осталась версия самоубийства, – ответил Бухарин, мгновенно потупившись. – Хотя очень много противоречивых фактов. В номере «Англетера» все было перевернуто вверх дном и разбросано. На лбу пробоина. Ссадина на щеке. Множественные царапины на теле.
– Ну, он же был драчун, насколько мне известно, – сказал Сталин. – Похоронили на Ваганьковском?
– На Ваганьковском.
– Тяжелейшая потеря для нашей поэзии, – произнес Эйзенштейн. – Говорят, он в последний год только и говорил о смерти. Мол, мне предсказано, что умру в пятьдесят.
– Желаем вам, чтобы пре-едс-казание не сбылось, – сказал Молотов, споткнувшись на слове «предсказание», как с ним бывало нередко при произнесении слов длиннее, чем из трех слогов. – У нас на вас огромные планы.
– Будете снимать, – продолжил Сталин. – Предоставим все необходимое. Но хотелось бы, чтобы вы учли наши пожелания.
– Постараюсь, – кивнул Эйзенштейн. – Однако прошу позволить мне руководствоваться методикой своего творчества, не теряя ее уникальности.
– Например, поразительные крупные планы, – вставил свое слово Бухарин. – Пенсне корабельного врача, болтающееся после того, как его самого выбросили за борт. Или упавший крест священника, воткнувшийся в палубу, как топор.
– Этот метод использования крупного плана называется «парс про тото», что значит «часть ради целого». Это когда часть способна заменить собой целое. Как тухлое мясо олицетворяет собой весь царский режим, невыносимый для народа. События на «Потемкине» это тоже часть великого целого, великой пролетарской революции.
– А как вам удается работать с массовкой? – спросил Молотов.
– С массовкой… – потупился Эйзенштейн и усмехнулся. – Я использую прием Наполеона.
– Интересно, – оживился Сталин. Он покончил с котлетами и гречкой и вернулся к своей трубке. А забытый Товстуха опять разразился долгим глухим кашлем.
– Бонапарт нарочно узнавал подробности жизни своих подданных и удивлял их, спрашивая: «Ну как там твоя невеста Жоржетта?» или «Твой отец Шарль так и не вылечил свою подагру?» У людей создавалась иллюзия, что он все про всех знает. Люди шли за него на смерть. Во время съемок толпы, бегущей по лестнице, я кричу в рупор: «Товарищ Прокопенко, нельзя ли поэнергичнее?» И массовка цепенеет в благоговейном ужасе, что режиссер видит каждого, знает каждого по фамилии. И дальше начинает изо всех сил стараться, уверенная, что режиссер, как недреманное око Господа Бога, видит каждого. А я просто выучил десяток фамилий людей из массовки и наобум называю Прокопенко, хотя он бежит так же, как и все другие.
– А откуда вы взяли столько кораблей для адмиральской эскадры? – поинтересовался Ворошилов. – На Черном море мы только начали восстанавливать флот. Бронепалубный крейсер «Коминтерн», несколько канонерских лодок, вот и все, чем мы там располагаем. Или вы на Балтике снимали? На Балтике у нас действительно сила.
– Вы будете смеяться, но это американский флот, – признался Эйзенштейн и сам громко расхохотался.
– Как американский? – удивился Калинин.
– Для показа надвигающейся царской эскадры я просто использовал хронику маневров американского флота начала века. Там при монтаже даже прозявкали и не убрали один кадр, в котором мелькнул американский полосатый флажок.
Все дружно рассмеялись, сытые, переместившие содержимое судков в желудки, и совсем не такие грозные, какими представлял их себе Сергей Михайлович.
– Честно сказать, я не думал, что кремлевские застолья столь скромны, – признался он.
– А вы думали, мы здесь устрицами питаемся? – усмехнулся Сталин. – Астраханской и дальневосточной икоркой? Нет, дорогой товарищ Эйзенштейн, если мы не станем соблюдать скромность, то кончим свои дни, как Людовик и Мария-Антуанетта. Помните, она сказала, что, если у народа нет хлеба, пусть жрет пирожные?
– Или как Николашка с Алексашкой, – добавил Калинин. – Которые тоже себе ни в чем не отказывали.
– У Николая личных автомобилей было двенадцать штук, – заметил Ворошилов. – И императорскому двору принадлежало еще восемнадцать.
– Зато нам теперь есть на чем ездить, – засмеялся Бухарин.
– Лично я на царских роскошных колымагах не езжу, – сказал хозяин кабинета. – Мой «паккард» недавно куплен в Америке.
– А в семнадцатом ты ездил на «воксхоле», принадлежавшем матери царя, – возразил Николай Иванович.
– Очень недолго, – сердито дернул головой Сталин и поспешил переменить тему скромности и роскоши. – В заключение нашего ужина, товарищи, мы, думается, можем на государственном уровне поручить товарищу Эйзенштейну работу над фильмой, соответствующей нынешней генеральной линии партии.
– Безусловно, – сказал Бухарин.
– Безусловно, но с условиями, – возразил Ворошилов. – Просим по возможности соблюдать историческую достоверность.
– Правильно, – кивнул Сталин. – А товарища Товстуху за его старательность предлагаю назначить заведующим Секретным отделом ЦК и одновременно первым помощником генерального секретаря ЦК РКП(б). Возражений нет? Тогда, товарищи, спасибо за хорошую беседу. А вы, товарищ Железный Камень, можете уже с завтрашнего дня приступать к новой фильме.

Н.С. Аллилуева.
1927. [РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 1663. Л. 1]
И только он это сказал, как в кабинет огромным животом вперед, как крейсер в финале «Потемкина», вошла Надежда Сергеевна, лицо ее выражало негодование, тяжелый подбородок задвигался:
– Товарищи! Прекратите избиение младенцев! Я уверена, товарищ Эйзенштейн поставил эпиграф не из каких-то там политических пристрастий. Ему просто понравились выразительные слова Троцкого. Я уверена, он не замешан ни в каких делах со Львом Давидовичем. Эйзенштейн – великий художник, ему суждено великое будущее. Не мучайте же его!
Лицо Сталина выражало явное недовольство и раздражение.
– Меня никто и не мучает, – засмеялся Эйзенштейн столь по-мальчишески, что все вновь рассмеялись. Сталин сдержал гнев, сменил его на милость и ответил:
– Надежда Сергеевна, мы товарища Эйзенштейна не мучаем, мы его взяли в свою компанию, поручили новую фильму.
– Правда не мучили?
– Да правда, правда!
Глава третья
Сальто-мортале
И снова Большой театр готовился к показу кино, и снова к юбилею. Два года назад праздновали двадцатилетие Первой русской революции, а сегодня, товарищи, будем праздновать десятилетие Третьей и окончательной, октябрьской.
Александров и Эйзенштейн лихорадочно работали в монтажной студии Госкино. Собрать весь фильм не представлялось возможным, съемки удалось завершить только недавно, но наверху согласились, что лента будет показана в Большом не полностью. И вот теперь оба создателя старались слепить как можно больший кусок, желательно две трети всего имеющегося материала.
Большевики не продержатся больше десяти дней! Но продержались и потрясли мир этими десятью днями. Не проживут и года! Прожили год, и два, и пять. А вот теперь уже десять лет потрясают мир, несокрушимо владея огромной кустодиевской бабой по имени Россия. И уже никто в мире не надеется так легко и скоро стряхнуть их с этих широченных пространств.
Десять лет назад четырнадцатилетний сын владельца екатеринбургской гостиницы «Сибирь» Гриша Мормоненко окончил музыкальную школу по классу скрипки, но благополучная жизнь внезапно рухнула. Вместе с родителями он возмущался тем сальто-мортале, какое совершила великая страна, и представить себе не мог, что по государственному заказу станет равноправным создателем ленты, рассказывающей о великих событиях того года. Тогда он уже был связан с искусством, но как! Рассыльный в городском театре, помощник бутафора, помощник осветителя. Пришла советская власть, и, когда из Екатеринбурга навсегда вышвырнули колчаковцев, он и прибившийся к дому парень из Сибири Ваня Пырьев вместе организовали самодеятельность в клубе ЧК.
Запоминающуюся фамилию надо сменить, сыном владельца гостиницы оставаться уже небезопасно – так вместо Гриши Мормоненко появился Григорий Александров и отправился руководить фронтовым театром.
Где еще случалось подобное? Третья армия, сражавшаяся с Колчаком, вечерами смотрела спектакли по только что написанным пьесам, с ходу поставленным на товарной железнодорожной платформе вместо сцены. Третья армия не понимала театральной условности, красноармейцы могли стрельнуть в отрицательного персонажа или возбудиться, когда актеры выхватывали сабли. Третья армия была самым лучшим зрителем и во все верила, театр мог только радоваться.
Вернувшись в Екатеринбург, вместе с Пырьевым Григорий создает детский театр, но его тянуло на что-то большее, манили известия из Москвы и Петрограда о новых театральных формах, о чем-то доселе не виданном и не слыханном. Еще не говорило радио, и его роль исполняли слухи: а в Москве, а в Петрограде, а в Киеве!.. Гремит Маяковский, будоражит зрителей Мейерхольд. Разрушай! Ломай! Преодолевай! Долой все старое – традиции, догмы, косность, закостенелость! Объединялись в труппы и группы с причудливыми названиями. В Екатеринбурге создали ХЛАМ – художники, литераторы, артисты, музыканты. С театральных галерок освистывали дореволюционных артистов, топали, орали, сопротивлялись милиции и чувствовали себя счастливыми: боремся! Ставили и собственные спектакли, такие, где все сикось-накось, дурь беспросветная, сплошные сальто-мортале, но зато весело. И называется: гротеск, социальная острота, новаторство.
Добрались и до кино. Александрова назначили инструктором губнаробраза, или, как он сам говорил, дикообразом. И отсюда-то пошел его шараш-монтаж. Отсмотрев сотню фильмов, Гриша понял, что все это безнадежное старье можно оживить, монтируя сцены из одних лент со сценами из других, создавая визуальную чехарду, кинематографическое сальто-мортале. И зачиркали ножницы, беспощадно кромсая пленки, создавая из них нечто невообразимое, каскады гротеска. Киношные завалы превращались в ожившее безумие, которому давали новое название и отправляли к зрителю, а зритель ничего не понимал, возмущался, требовал вернуть деньги, а то и просто уходил, плюнув: вот черти полосатые! Зато критики восхищались: новизна, смелость, полет фантазии киномонтажеров.
Кончилось тем, что политотдел Третьей армии от греха подальше отправил Александрова и Пырьева в Москву – пусть уж там учатся новому искусству; снабдил их шинелями, шапками, сапогами и солью, заменявшей деньги: что хочешь можно было выменять.
В Москве совались туда-сюда, там нравится, но не берут, здесь берут, но не нравится, даже к Вахтангову не пошли, обиделись, когда Евгений Багратионович велел Грише в качестве испытания изобразить петушка, обхаживающего курочку.
И вдруг – в саду «Эрмитаж» театр Пролеткульта! Посмотрели в нем «Мексиканца» как бы по Джеку Лондону, и – это наше, сумасшедшее! Из шестисот желающих через экзаменационное сито прошли только шестеро, в число этих счастливчиков попали Александр Левшин, Александр Антонов, Михаил Гоморов, Максим Штраух, Иван Пырьев и Григорий Александров. Последние двое в ближайших спектаклях стали морды друг другу бить. И не по-театральному, а по-настоящему. Благодаря Эйзенштейну.
Этот смешной паренек, ученик Мейерхольда, при первой встрече с Александровым поразил того своим тонким голосочком и абсурдностью мышления:
– Я буду вас учить биомеханике. Вы знаете, что такое биомеханика?
– Смутно.
– Я тоже.
– Как же вы намерены нас учить?
– Когда чего-то не знаешь, начни это преподавать, – хитроумно изрек двадцатитрехлетний учитель восемнадцатилетнему ученику.
И начались занятия биомеханикой по системе Мейерхольда, разработанной для поддержания идеальной физической формы актеров. Эйзенштейн сначала работал на «Мексиканце» художником, потом ему доверили режиссировать по-своему третий акт, и вот тут он развернулся. Поставил Гришу и Ваню в поединке между мексиканцем и американцем – деритесь вживую! Забудьте про Станиславского с его дутой системой переживаний, бей его, теперь ты его, никакой психологической игры, жизнь – это театр, а театр – это жизнь, бей, говорю! И «американец» Гриша бил «мексиканца» Ваню, а тот – его, носы и губы в кровь, зрители в полном восторге!
Ради хлеба насущного устроились еще статистами в Большой театр, там давали хлебный паек. Но недолго музыка играла, на «Князе Игоре» изображали павших на поле брани, а оперу ставили с настоящими лошадьми, и коняшка хана Кончака однажды резко попятилась, останься лежать – наступит на тебя, и «убитый» Гриша со стрелой в груди позорно бежал, сменив трагедийность спектакля на внезапный бурлеск. Не хотел погибнуть во имя искусства – получите расчет, да без выходного пособия. Не попал к Колчаку, пострадал от Кончака!
Акробатикой он занимался ежедневно и увлеченно, даже подменял заболевших артистов в цирке немца Альберта Саламонского на Цветном бульваре, ставшем Первым государственным. Кстати, именно Альберт Вильгельмович впервые выполнил сальто-мортале на неоседланной лошади.
Шаловливая акробатика навсегда разлучила Гришу с благовоспитанной системой Станиславского и с самим ее создателем. Играя Жевакина в «Женитьбе», Александров и тут использовал свое сальто-мортале: запрыгивал на крышку пианино, оттуда – на плечи партнера по сцене, чем просто взбесил Константина Сергеевича. Досмотрев спектакль до конца, великий основатель МХАТа, задыхаясь от гнева, не знал, что сказать, выругаться мешала вежливость. Вышел из зала, пробормотав:
– Кувырки-кувырочки.
Но зачем им был нужен отживший свое шестидесятилетний старик, родитель театра, ушедшего в прошлое, когда есть новый гений, провозгласивший свои принципы искусства тонким голоском, но громко и решительно. Из шести счастливчиков, принятых в театр Пролеткульта в 1921 году, Александров, Левшин, Антонов, Штраух и Гоморов составили знаменитую эйзенштейновскую железную пятерку и вместе с ним собрали новый театр под названием «Перетру» – передвижная труппа. Потому что намеревались со своими спектаклями колесить по всему свету. И Александров быстро сделался правой рукой своего гуру.
Миллионер Арсений Морозов много ездил по заграницам, в португальской Синтре его сильно поразил дворец Пена, захотелось построить нечто подобное и в Москве. Когда его мать Варвара Алексеевна, женщина консервативная, увидела это чудо архитектуры в виде замка, украшенного в стиле мануэлино – ракушками и завитушками, – она сказала: «Раньше только я знала, что ты дурак, а теперь и вся Москва узнает». Именно здесь, в этом португало-мавританском шедевре московского буржуйского зодчества, расположился театр «Перетру». Власти Москвы благоволили Эйзенштейну – квартира на Чистых прудах, особняк Морозова. Здесь, в подобии дворца Пена, царили кувырки-кувырочки, сальто-мортале, причудливые разборные декорации, все, что Сергей Михайлович обозначил понятием искусства аттракционов.
Но не только «Перетру». В то же время Станиславский проповедовал старое искусство, а Мейерхольд – новое, Форрегер взывал к футуристическому театру, Маяковский гремел стихами-лесенками, Михаил Чехов учил методам йога Рамача-раки, Луначарский читал лекции, призывая всех объединяться, а лефовцы Арватова – всех разъединяться, и кого только не бывало. Одни пролеткультовцы требовали сжечь Большой и Малый театры, запретить Чайковского и прах его разбросать по площадям, а за чтение Пушкина расстреливать на месте, другие убеждали находить полезные составляющие и из них творить новое искусство, цитировали Ленина, что, не зная старого, не создашь нового. Эйзенштейновские перетрушники ссылались на «Интернационал»: «до основанья, а затем». И пьесу по Островскому назвали так: «На всякого мудреца довольно простоты», где огромными буквами выделялись «ВСЯКОГО» и «ДОВОЛЬНО». В спектакле таки оказалось довольно всякого, и чересчур. Если персонаж говорил: «Хоть на рожон полезай», актриса, к которой он обращался, ловко взбиралась на высокий шест, а если она ему отвечала: «Да провались ты!» – он действительно проваливался. Александров в полумаске и цилиндре ходил по натянутой проволоке и чуть не свалился с приличной высоты, когда проволока по какой-то причине была испачкана машинным маслом. А однажды, исполняя очередное сальто-мортале, он вылетел в окно и приземлился не в зрительном зале, а на куче: оп-ля! – спасибо тебе, песок, что ты не навоз.
В Большом театре Эйзенштейн впервые демонстрировал свое искусство на юбилее Мейерхольда. В оркестровой яме вместо приличных музыкантов во фраках расположилась банда с кастрюлями, сковородками, бидонами, банками, бутылками и прочими шумовыми инструментами. Именно тогда Александров оказался на волосок от смерти, пойдя по замасленной проволоке.
Причудливы пути артистов, и это «всякого довольно» привело шалунов в кино, когда спектакль решили дополнить глумливой киновставкой, «Дневником Глумова», снятой хулигански, безобразно, но залихватски. Сказавши «А», скажи и «Б». Оттолкнувшись от шаткого причала первого киношного озорства, фанерная лодочка перетрушников вскоре уже плавала в открытом море кино. А промежуточной стадией стал уже известный Александрову шараш-монтаж.
В доме на углу Тверской и Вознесенского переулка с марта 1923 года разместился монтажный отдел Госкино, где царила озорная и неутомимая Эсфирь Шуб, увлеченно монтировавшая заграничные фильмы для выпуска в советский прокат. Тогда еще не свирепствовало авторское право, молодое советское государство плевать хотело на деятелей буржуазного искусства и вытворяло с их лентами что хотело. Эсфирь привлекла к работе и Сережу с Гришей. Александров, наловчившийся в Екатеринбурге, получил возможность показать свое мастерство монтажера, и вновь зачиркали ножницы.
Начали с перемонтажа «Доктора Мабузе» Фрица Ланга с Клаем Рогге в главной роли. Мистический, полный туманностей фильм превратился в картину с остросоциальным звучанием. Шуб осталась весьма довольна. Дальше – больше. Эйзенштейн «заболел» монтажом, увидев в нем нескончаемые перспективы для кино. Они с Александровым брали ленту, перемонтировали ее, создавали новые интертитры и получали совсем другой фильм. Потом стали монтировать один фильм из двух или даже трех-четырех. Например, ленту о роскошной жизни богатых бездельников, плывущих на шикарном океанском лайнере, скрещивали с картиной о тяжелейшем труде кочегаров большого корабля. И получалось сильно: одни утопают в излишествах и лени, другие вкалывают до изнеможения. Отвратительные эксплуататоры и несчастные эксплуатируемые. В итоге первых зритель ненавидел, за вторых готов был хоть завтра с утра идти бороться.
Оставалось только применить методику эффектного монтажа в собственном фильме, и тут как раз их пригласил к себе главный идеолог Пролеткульта Валериан Плетнев, он предложил снять фильм о провокаторах в революционном подполье. Эйзенштейну тема показалась узкой, и он предложил более широкий сюжет: о революционном движении вообще, о том, как шагали к семнадцатому году. В итоге пришли к идее фильма «Стачка», и Валериан Федорович сам написал сценарий. У него получилась историческая иллюстрация, и Эйзенштейн, конечно же, все сделал по-своему. Гриша перекраивал сценарий Плетнева, Сережа, в свою очередь, переделывал сценарий сердечного друга по созданному им самим методу монтажа аттракционов – снимаем саму жизнь, монтируем, вставляем игровые сцены и получаем возбудитель социально полезной зрительской реакции.
Начали снимать по своим законам, Пролеткульт возмутился: Плетнев потребовал соблюдать сюжетную канву, придерживаться исторической достоверности, присутствия не только масс, но и отдельных персонажей. Режиссеры вступили с Пролеткультом в схватку, полетели клочки шерсти: мы снимаем кино, в котором противостоим буржуазному индивидуализму, мы творим новое пролетарское искусство, старое разрушим до основанья, а затем – мы наш, мы новый мир смонтируем! Директор Первой госкинофабрики Михин поддержал их, даже привел им талантливого оператора Тиссэ, и в итоге победили друзья сердечные, фильм вышел на экран в том виде, в каком они его сделали. И если одни критики возопили о чудовищной непонятности эстетики Эйзенштейна, другие были в восторге от монтажа аттракционов, в котором эпизоды сталкиваются один с другим, бьют зрителя по глазам, не оставляют р авнод ушным.
Тиссэ не просто снял «Стачку», он научил друзей всем тонкостям киносъемки. Поначалу они вынуждены были согласиться с ним, что ни черта не понимают в кинематографе, а потом, глядя на его работу, обучались великому мастерству. Он снимал своим собственным аппаратом «Эклер» и заставлял их тоже время от времени крутить ручку. Он – в элегантном костюме и всегда выбрит до блеска, они – вечно неопрятные, в блузах, скроенных из шерстяных одеял. Заставил их тоже следить за собой и одеваться во что-то более человеческое.
«Стачку» снимали без профессиональных актеров, все главные роли исполняла «железная» пятерка: Гоморов, Антонов, Александров, Левшин и Штраух. Однажды их чуть не избили, когда массовку, играющую демонстрантов и ни о чем не предупрежденную, стали поливать холодной водой из брандспойтов. От избиения спас Гриша, вышел и приказал его тоже поливать. Мало! Не только его одного, пусть остальные становятся! Встали остальные. И самого Эйзенштейна сюда! Встал под холодную воду и Сергей. Поливали их, пока массовка, получив сатисфакцию, не дала отмашку.
Пролеткульт предрекал фильму провал, который означал бы, что команде «Перетру» больше не дадут снимать советское кино. Премьера в «Художественном» полностью опровергла это пророчество, зрители горячо аплодировали, метод монтажа аттракционов одержал полную победу. За «Стачкой» поступил заказ на ленту о революции 1905 года.
Они уже написали половину сценария о Первой Конной Буденного, когда их вызвал на сей раз не Плетнев, а председатель ЦИК Калинин: был на «Мудреце», видел «Стачку», такие молоденькие, а как широко шагаете, нужна фильма о пятом годе, я верю именно в вас.
И – внимание! Приготовиться! Начали!
Американская киноакадемия признала «Потемкина» лучшим фильмом 1926 года. Фильм запретили в большинстве европейских стран. А в газетах писали, что с выходом «Броненосца» СССР стал кинодержавой.
И вот теперь друзья сердечные впопыхах монтировали новый фильм, поначалу называвшийся по книге Джона Рида, а в итоге ставший «Октябрем». Любой лишний вопрос приводил Сергея в бешенство, и Гриша старался по возможности помалкивать. Шуршала перфорированная змея, щелкали ножницы, шушукались друг с другом склеиваемые кадры. Эйзенштейн то и дело недовольно кряхтел и пыхтел, ему уже все не нравилось.
– Эх, не хватает живоглота!
– Какого еще?
– Который, помнишь, мышей и лягушек глотал. Зря мы его не сняли. Сейчас бы пригодился.
– Как символ чего?
– Как символ живоглотства царской власти.
– Вы что, его царем бы нарядили?
– Не знаю… Но не хватает, и баста!
– Дохлая лошадь. Мало?
– Мало. Живоглот бы очень пригодился.
– Вызывал бы отвращение. И не только к царской власти, но и к создателям фильма.
– Вы полагаете?
– Уверен, учитель.
– Может, вам и метод монтажа аттракционов больше не нравится?
– Может быть.
– Гриша, вы не охренели?
– Охренел. Простите, Сергей Михайлович.
– Ладно, прощаю. Пожалуй, вы правы, мертвой лошади будет достаточно. Как и всего остального. Черт с ним, с живоглотом!
Седьмое ноября перевалило за полдень, а у них еще куча недомонтированного, опять они догоняли поезд, чтобы вскочить в последний вагон, как Гарольд Ллойд в начале того фильма, в финале которого он лезет на небоскреб. Только около четырех смогли облегченно вздохнуть: смонтировано, осталось кое-где подчистить. В комнату осторожно просочилась Эсфирь:
– Ну, как у вас дела?
– Сделаем, – уверенно выдохнул Александров.
– Кажись, успеваем, – подтвердил Эйзенштейн.
– Тогда… Никому не говорите, что я вам проболталась. Приказано ничем вас не отвлекать. Но…
– Да что такое-то?
– Восстание, ребята! Не исключено, что к вечеру Сталина свергнут. Только никому, слышите?
И убежала. Сергей с Гришей уставились друг на друга.
– Мы живем на пороховой бочке, – произнес Александров.
– Хуже. На пакгаузе «Двенадцати апостолов». Чихнешь, и рванет, – засмеялся Эйзенштейн. – Ладно, нам некогда. Давайте просмотрим эпизод с этой лошадью… Эсфирьке-то везет, она уже отстрелялась.
Эсфирь Ильинична к десятилетию революции еще в марте выпустила свой подарок. В прошлом году она поехала в Ленинград и нашла там царский киноархив, из огромного материала смонтировала документальную ленту «Февраль», но в верхах решили, что негоже таким образом праздновать годовщину Февральской революции, и на экраны картина вышла под названием «Падение дома Романовых». Хоть и не бог весть что, но фильм понравился зрителям, так что Шуб могла теперь беззаботно отмечать десятилетие Октября, за которое сегодня нужно отдуваться друзьям сердечным.
Дверь в монтажную снова скрипнула, и Сергей сердито рявкнул:
– Мы же просили не отвлекать!
– Я ненадолго. И по важному делу, – раздался за их спиной знакомый голос с легким грузинским акцентом. Они резко оглянулись. Сталин уже снимал шинель и фуражку, остался в кителе горчичного цвета и такого же цвета брюках, подошел к ним, стараясь сохранять спокойствие, но они увидели его волнение. – Здравствуйте. – Он пожал им руки. – Как дела, товарищи киноделы? Успеваете?
– Сделаем, товарищ Сталин, – ответил Александров.
– Собственно, осталось кое-что подчистить, – добавил Эйзенштейн.
– Вот я за тем и пришел, чтобы подчистить, – сказал гость. – Скажите, у вас в картине есть Троцкий?
– Да, – ответил Эйзенштейн. – Он ведь участвовал…
– Покажите.
– Но… Надо послать за механиком.
– Пошлите. Это долго?
– Я могу вместо механика, – предложил Гриша и увидел, как Сергей стрельнул в него недобрым взглядом. Они отправились в небольшой кинозальчик, Александров с кусками фильма залез в кинопроекторную будку, Сталин и Эйзенштейн сели рядом перед экраном, смотреть на экранного Троцкого, как он в июльские дни призывает кронштадтцев не поднимать вооруженный мятеж. Восстание преждевременно! Стихийное восстание обречено на поражение! В фуражке и пенсне. Очень похож. А это уже октябрь, и к Троцкому в Смольный приходит Каменев, говорит, что рано поднимать восстание, а Троцкий ему: «Самое время! Дайте папиросу». Закуривает. Дальше он уже 25 октября в Петроградском совете объявляет: Временного правительства больше не существует, министры арестованы, вокзалы, почты, телеграф, все крупные банки взяты в наши руки; ему бешено аплодируют, обнимают, поздравляют с днем рождения: «Да, товарищи, сегодня мой день рождения и день рождения новой страны!» А вот он объявляет народу: наше правительство будет называться народным – Совет народных комиссаров.

И.В. Сталин и Н.С. Аллилуева. 1927.
[РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 1651. Л. 44]
Отсмотрев куски, Сталин строго произнес:
– Картину с Троцким сегодня показывать нельзя. Лев Давидович поднял мятеж, пытался свергнуть наше правительство. Наше народное правительство. Его штурмовики атаковали важнейшие пункты Москвы. Но получили отпор, и мятеж подавлен. Было бы нелогично после этого показывать людям его в фильме. Прошу вас подчистить.
Распорядившись, Сталин вернулся в монтажную, надел шинель и фуражку, попрощался и вышел на Тверскую, где в черном «паккарде» его ждали помощник Товстуха и шофер Палосич – Павел Иосифович Удалов.